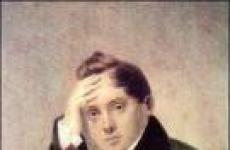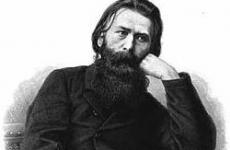О псевдонауке и псевдопатриотах. Ю.С
Штабс-капитан Рыбников
1
В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые, тревожные, глухие вести, - в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безыменном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска:
«Вышлите немедленно листы следите за больным уплатите расходы» .
Штабс-капитан Рыбников тотчас же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день - на два из Петербурга и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уж никогда туда не возвращался.
И только спустя пять дней хозяйку вызвали в полицию для снятия показаний об ее пропавшем жильце. Честная, толстая, сорокапятилетняя женщина, вдова консисторского чиновника, чистосердечно рассказала все, что ей было известно: жилец ее был человек тихий, бедный, глуповатый, умеренный в еде, вежливый; не пил, не курил, редко выходил из дому и у себя никого не принимал.
Больше она ничего не могла сказать, несмотря на весь свой почтительный ужас перед жандармским ротмистром, который зверски шевелил пышными подусниками и за скверным словом в карман не лазил.
В этот-то пятидневный промежуток времени штабс-капитан Рыбников обегал и объездил весь Петербург. Повсюду: на улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах конок, на вокзалах появлялся этот маленький, черномазый, хромой офицер, странно болтливый, растрепанный и не особенно трезвый, одетый в общеармейский мундир со сплошь красным воротником - настоящий тип госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Он являлся также по нескольку раз в главный штаб, в комитет о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих войск и еще в десятки присутственных мест и управлений, раздражая служащих своими бестолковыми жалобами и претензиями, своим унизительным попрошайничеством, армейской грубостью и крикливым патриотизмом. Все уже знали наизусть, что он служил в корпусном обозе, под Ляояном контужен в голову, а при Мукденском отступлении ранен в ногу. Почему он, черт меня возьми, до сих пор не получает пособия?! Отчего ему не выдают до сих пор суточных и прогонных? А жалованье за два прошлых месяца? Абсолютно он готов пролить последнюю, черт ее побери, каплю крови за царя, престол и отечество, и он сейчас же вернется на Дальний Восток, как только заживет его раненая нога. Но - сто чертей! - проклятая нога не хочет заживать… Вообразите себе - нагноение! Да вот, посмотрите сами. - И он ставил больную ногу на стул и уже с готовностью засучивал кверху панталоны, но всякий раз его останавливали с брезгливой и сострадательной стыдливостью. Его суетливая и нервная развязность, его запуганность, странно граничившая с наглостью, его глупость и привязчивое, праздное любопытство выводили из себя людей, занятых важной и страшно ответственной бумажной работой.
Напрасно ему объясняли со всевозможной кротостью, что он обращается в неподлежащее место, что ему надобно направиться туда-то, что следует представить такие-то и такие-то бумаги, что его известят о результате, - он ничего, решительно ничего не понимал. Но и очень сердиться на него было невозможно: так он был беззащитен, пуглив и наивен и, если его с досадой обрывали, он только улыбался, обнажая десны с идиотским видом, торопливо и многократно кланялся и потирал смущенно руки. Или вдруг произносил заискивающим хриплым голосом:
Пожалуйста… не одолжите ли папиросочку? Смерть покурить хочется, а папирос купить не на что. Яко наг, яко благ… Бедность, как говорится, не порок, но большое свинство.
Этим он обезоруживал самых придирчивых и мрачных чиновников. Ему давали папироску и позволяли присесть у краешка стола. Против воли и, конечно, небрежно ему даже отвечали на его назойливые расспросы о течении поенных событий. Было, впрочем, много трогательного, детски искреннего в том болезненном любопытстве, с которым этот несчастный, замурзанный, обнищавший раненый армеец следит за войной. Просто-напросто, по-человечеству, хотелось его успокоить, осведомить и ободрить, и оттого с ним говорили откровеннее, чем с другими.
Интерес его ко всему, что касалось русско-японских событий, простирался до того, что в то время, когда для него наводили какую-нибудь путаную деловую справку, он слонялся из комнаты в комнату, от стола к столу, и как только улавливал где-нибудь два слова о войне, то сейчас же подходил и прислушивался с своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой.
Когда он наконец уходил, то оставлял по себе вместе с чувством облегчения какое-то смутное, тяжелое и тревожное сожаление. Нередко чистенькие, выхоленные штабные офицеры говорили о нем с благородной горечью:
И это русские офицеры! Посмотрите на этот тип. Ну, разве не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением? Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собственного достоинства… Бедная Россия!..
В эти хлопотливые дни штабс-капитан Рыбников нанял себе номер в грязноватой гостинице близ вокзала. Хотя при нем и был собственный паспорт запасного офицера, но он почему-то нашел нужным заявить, что его бумаги находятся пока в комендантском управлении. Сюда же в гостиницу он перевез и свои вещи - портплед с одеялом и подушкой, дорожный несессер и дешевый новенький чемодан, в котором было белье и полный комплект штатского платья.
Впоследствии прислуга показывала, что приходил он в гостиницу поздно и как будто под хмельком, но всегда аккуратно давал швейцару, отворявшему двери, гривенник на чай. Спал не более трех-четырех часов, иногда совсем не раздеваясь. Вставал рано и долго, часами ходил взад и вперед по комнате. В поддень уходил.
| Рыбников Юрий Степанович | |
| Науки | |
|---|---|
| Дата рождения | |
| Гражданство |
Россия |
| Сайт | |
| FreakRank | |
Рыбников Юрий Степанович - фрик, специализирующийся на физике и довольно популярный у недалекой категории интернет-пользователей. Известен своим изобретением периодической системы электроатомов РУСов , методикой построения электроструктур электроатомов, соединившей физику, химию, электричество, счёт РУСов (математику) в единую систему Знаний .
Полностью отрицает современную теорию строения атома и множество других современных научных представлений. В целом его творчество является типичным бессмысленным нагромождением некорректно приведенных наукообразных терминов.
РУС - аббревиатура Равноправной Устойчивой Симметрии (системы) землян, живших и живущих вольными РОДами в согласии с приРОДой. РУСы создавали, создают и будут созидать самобытное, самообеспеченное, самодостаточное, самозащищенное объединение наРОДа - РУСы. Самобытный уклад жизни РОДовых объединений позволяет РУСам создавать преемственность Знаний из уст в уста. Знания оставались в РОДовом сознании каждого соРОДича и передавались из поколения в поколение. Познание приРОДы РУСами проводились неразрушающими методами, что позволило Родителям готовить Созидателей, исключая всякое разрушающее начало в виде тВОРцов, завоевателей, и покорителей приРОДы. Человеку жизнь дается РОДителями, для жизни в ЛАДАХ с приРОДой, передачей опыта предков СОХРАНИ приРОДу каждому последующему поколению в РОДу Созидателей.Что же такое объемные знания РУСов? Обратимся к трудам Д.И. Менделеева, в статье «Попытка химического понимания мирового эфира», по Демокриту, писавшему лет за 400 до РХ, «дух как и огонь, состоит из мелких, круглых, гладких, наиболее удобоподвижных, легко и всюду проникающих атомов, движение которых составляет явление жизни». Очевидно, что речь идет о шарах (сферах), являющих абсолютной симметрией в приРОДе. Шар (сфера) есть очевидная безконечность, в которой нет ни начала, ни конца. Структура шаров (безконечностей) составляет систему Безконечной Вселенной, распределение безконечностей в природе создает систему Атомов (шаров, сфер), которая извращена наукой с помощью гениотов (Бор, Резерфор, Томсон) ложь преподносится нам сегодня, как планетарная модель атома с выдуманными «электронами» с зарядом «-» и протонами с зарядом «+». В свое время «-» и «+» придумал Б. Франклин в 1798-1803 гг. Шар (сфера) проявляется в природе электронейтральным (полями, зарядами, частицами, волнами, звуками, магнитами, светом, электроатомами, частотами, излучениями, веществом электровеществом) и т.д.) в зависимости от конкретных условий, конкретными структурами, свойствами, средами, в любых агрегатных состояниях.
I
В тот день, когда ужасный разгром русского флота у острова Цусима приближался к концу и когда об этом кровавом торжестве японцев проносились по Европе лишь первые, тревожные, глухие вести, – в этот самый день штабс-капитан Рыбников, живший в безыменном переулке на Песках, получил следующую телеграмму из Иркутска:
«Вышлите немедленно листы следите за больным уплатите расходы».
Штабс-капитан Рыбников тотчас же заявил своей квартирной хозяйке, что дела вызывают его на день – на два из Петербурга, и чтобы поэтому она не беспокоилась его отсутствием. Затем он оделся, вышел из дому и больше уже никогда туда не возвращался.
И только спустя пять дней хозяйку вызвали в полицию для снятия показаний об ее пропавшем жильце. Честная, толстая, сорокапятилетняя женщина, вдова консисторского чиновника, чистосердечно рассказала все, что ей было известно: жилец ее был человек тихий, бедный, глуповатый, умеренный в еде, вежливый; не пил, не курил, редко выходил из дому и у себя никого не принимал.
Больше она ничего не могла сказать, несмотря на весь свой почтительный ужас перед жандармским ротмистром, который зверски шевелил пышными подусниками и за скверными словами в карман не лазил.
В этот-то пятидневный промежуток времени штабс-капитан Рыбников обегал и объездил весь Петербург. Повсюду: на улицах, в ресторанах, в театрах, в вагонах конок, на вокзалах появлялся этот маленький, черномазый, хромой офицер, странно болтливый, растрепанный и не особо трезвый, одетый в общеармейский мундир со сплошь красным воротником – настоящий тип госпитальной, военно-канцелярской или интендантской крысы. Он являлся также по нескольку раз в главный штаб, в комитет о раненых, в полицейские участки, в комендантское управление, в управление казачьих войск и еще в десятки присутственных мест и управлений, раздражая служащих своими бестолковыми жалобами и претензиями, своим унизительным попрошайничеством, армейской грубостью и крикливым патриотизмом. Все уже знали наизусть, что он служил в корпусном обозе, под Ляояном контужен в голову, а при Мукденском отступлении ранен в ногу. Почему он, черт меня возьми, до сих пор не получает пособия?! Отчего ему не выдают до сих пор суточных и прогонных? А жалованье за два прошлых месяца? Абсолютно он готов пролить последнюю, черт ее побери, каплю крови за царя, престол и отечество, и он сейчас же вернется на Дальний Восток, как только заживет его раненая нога. Но – сто чертей! – проклятая нога не хочет заживать… Вообразите себе – нагноение! Да вот, посмотрите сами. – И он ставил больную ногу на стул и уже с готовностью засучивал кверху панталоны, но всякий раз его останавливали с брезгливой и сострадательной стыдливостью. Его суетливая и нервная развязность, его запуганность, странно граничившая с наглостью, его глупость и привязчивое праздное любопытство выводили из себя людей, занятых важной и страшно ответственной бумажной работой.
Напрасно ему объясняли со всевозможной кротостью, что он обращается в неподлежащее место, что ему надобно направиться туда-то, что следует представить такие-то и такие-то бумаги, что его известят о результате, – он ничего, решительно ничего не понимал. Но и очень сердиться на него было невозможно: так он был беззащитен, пуглив и наивен, и, если его с досадой обрывали, он только улыбался, обнажая десны с идиотским видом, торопливо и многократно кланялся и потирал смущенно руки. Или вдруг произносил заискивающим хриплым голосом:
– Пожалуйста… не одолжите ли папиросочку? Смерть покурить хочется, а папирос купить не на что. Яко наг, яко благ… Бедность, как говорится, не порок, но большое свинство.
Этим он обезоруживал самых придирчивых и мрачных чиновников. Ему давали папироску и позволяли присесть у краешка стола. Против воли и, конечно, небрежно ему даже отвечали на его назойливые расспросы о течении военных событий. Было, впрочем, много трогательного, детски-искреннего в том болезненном любопытстве, с которым этот несчастный, замурзанный, обнищавший раненый армеец следит за войной. Просто-напросто, по-человечески, хотелось его успокоить, осведомить и ободрить, и оттого с ним говорили откровеннее, чем с другими.
Интерес его ко всему, что касалось русско-японских событий, простирался до того, что в то время, когда для него наводили какую-нибудь путаную деловую справку, он слонялся из комнаты в комнату, от стола к столу, и как только улавливал где-нибудь два слова о войне, то сейчас же подходил и прислушивался со своей обычной напряженной и глуповатой улыбкой.
Когда он, наконец, уходил, то оставлял по себе вместе с чувством облегчения какое-то смутное, тяжелое и тревожное сожаление. Нередко чистенькие, выхоленные штабные офицеры говорили о нем с благородной горечью:
– И это русские офицеры! Посмотрите на этот тип. Ну, разве не ясно, почему мы проигрываем сражение за сражением? Тупость, бестолковость, полное отсутствие чувства собственного достоинства… Бедная Россия!..
В эти хлопотливые дни штабс-капитан Рыбников нанял себе номер в грязноватой гостинице близ вокзала. Хотя при нем и был собственный паспорт запасного офицера, но он почему-то нашел нужным заявить, что его бумаги находятся пока в комендантском управлении. Сюда же в гостиницу он перевез и свои вещи – портплед с одеялом и подушкой, дорожный несессер и дешевый новенький чемодан, в котором было белье и полный комплект штатского платья.
Впоследствии прислуга показывала, что приходил он в гостиницу поздно и как будто под хмельком, но всегда аккуратно давал швейцару, отворявшему двери, гривенник на чай. Спал не более трех-четырех часов, иногда совсем не раздеваясь. Вставал рано и долго, часами ходил взад и вперед по комнате. В полдень уходил.
Время от времени штабс-капитан из разных почтовых отделений посылал телеграммы в Иркутск, и все эти телеграммы выражали глубокую заботливость о каком-то раненом, тяжело больном человеке, вероятно, очень близком сердцу штабс-капитана.
И вот с этим-то суетливым, смешным и несуразным человеком встретился однажды фельетонист большой петербургской газеты Владимир Иванович Щавинский.
II
Перед тем как ехать на бега, Щавинский завернул в маленький, темный ресторанчик «Слава Петрограда», где обыкновенно собирались к двум часам дня, для обмена мыслями и сведениями, газетные репортеры. Это была довольно беспардонная, веселая, циничная, всезнающая и голодная компания, и Щавинский, до известной степени аристократ газетного мира, к ней, конечно, не принадлежал. Его воскресные фельетоны, блестящие и забавные, но не глубокие, имели значительный успех в публике. Он зарабатывал большие деньги, отлично одевался и вел широкое знакомство. Но его хорошо принимали и в «Славе Петрограда» за его развязный, острый язык и за милую щедрость, с которой он ссужал братьев писателей маленькими золотыми. Сегодня репортеры обещали достать для него беговую программу с таинственными пометками из конюшни.
Швейцар Василий, почтительно и дружелюбно улыбаясь, снял с Щавинского пальто.
– Пожалуйте, Владимир Иванович. Все в сборе-с. В большом кабинете у Прохора.
И толстый, низко стриженный рыжеусый Прохор также фамильярно-ласково улыбался, глядя, по обыкновению, не в глаза, а поверх лба почетному посетителю.
– Давненько не изволили бывать, Владимир Иванович. Пожалуйте-с. Все свои-с.
Как и всегда, братья писатели сидели вокруг длинного стола и, торопливо макая перья в одну чернильницу, быстро строчили на длинных полосах бумаги. В то же время они успевали, не прекращая этого занятия, поглощать расстегаи и жареную колбасу с картофельным пюре, пить водку и пиво, курить и обмениваться свежими городскими новостями и редакционными сплетнями, не подлежащими тиснению. Кто-то спал камнем на диване, подстелив под голову носовой платок. Воздух в кабинете был синий, густой и слоистый от табачного дыма.
Здороваясь с репортерами, Щавинский заметил среди них штабс-капитана в общеармейском мундире. Он сидел, расставив врозь ноги, опираясь руками и подбородком на эфес огромной шашки. При виде его Щавинский не удивился, как привык ничему не удивляться в жизни репортеров. Он бывал свидетелем, что в этой путаной бесшабашной компании пропадали по целым неделям: тамбовские помещики, ювелиры, музыканты, танцмейстеры, актеры, хозяева зверинцев, рыбные торговцы, распорядители кафешантанов, клубные игроки и другие лица самых неожиданных профессий.
Когда дошла очередь до офицера, тот встал, приподнял плечи, оттопырив локти, и отрекомендовался хриплым, настоящим армейским пропойным голосом:
– Хемм!.. Штабс-капитан Рыбников. Очень приятно. Вы тоже писатель? Очень, очень приятно. Уважаю пишущую братию. Печать – шестая великая держава. Что? Не правда?
При этом он осклаблялся, щелкал каблуками, крепко тряс руку Щавинского и все время как-то особенно смешно кланялся, быстро сгибая и выпрямляя верхнюю часть тела.
«Где я его видел? – мелькнула у Щавинского беспокойная мысль. – Удивительно кого-то напоминает. Кого?»
Здесь в кабинете были все знаменитости петербургского репортажа. Три мушкетера – Кодлубцев, Ряжкин и Попов. Их никогда не видали иначе, как вместе, даже их фамилии, произнесенные рядом, особенно ловко укладывались в четырехстопный ямб. Это не мешало им постоянно ссориться и выдумывать друг про друга случаи невероятных вымогательств, уголовных подлогов, клеветы и шантажа. Присутствовал также Сергей Кондрашов, которого за его необузданное сладострастие называли «не человек, а патологический случай». Был некто, чья фамилия стерлась от времени, как одна сторона скверной монеты, и осталась только ходячая кличка «Матаня», под которой его знал весь Петербург. Про мрачного Свищева, писавшего фельетончики «По камерам мировых судей», говорили в виде дружеской шутки: «Свищев крупный шантажист, он меньше трех рублей не берет». Спавший же на диване длинноволосый поэт Пеструхин поддерживал свое утлое и пьяное существование тем, что воспевал в лирических стихах царские дни и двунадесятые праздники. Были и другие, не менее крупные имена: специалисты по городским делам, по пожарам, по трупам, по открытиям и закрытиям садов.
Длинный, вихрястый, угреватый Матаня сказал:
– Программу вам сейчас принесут, Владимир Иванович. А покамест рекомендую вашему вниманию храброго штабс-капитана. Только что вернулся с Дальнего Востока, где, можно сказать, разбивал в пух и прах желтолицего, косоглазого и коварного врага. Ну-с, генерал, валяйте дальше.
Офицер прокашлялся, сплюнул вбок на пол.
«Хам!» – подумал Щавинский, поморщившись.
– Русский солдат – это, брат, не фунт изюму! – воскликнул хрипло Рыбников, громыхая шашкой. – Чудо-богатыри, как говорил бессмертный Суворов. Что? Не правду я говорю? Одним словом… Но скажу вам откровенно: начальство наше на Востоке не годится ни к черту! Знаете известную нашу поговорку: каков поп, таков и приход. Что? Не верно? Воруют, играют в карты, завели любовниц… А ведь известно: где черт не поможет, бабу пошлет.
– Вы, генерал, что-то о съемках начали, – напомнил Матаня.
– Ага, о съемках. Мерси. Голова у меня… Дер-р-балызнул я сегодня. – Рыбников метнул взгляд на Щавинского. – Да, так вот-с… Назначили одного полковника генерального штаба произвести маршрутную рекогносцировку. Берет он с собой взвод казаков – лихое войско, черт его побери… Что? Не правда?.. Берет он переводчика и едет. Попадает в деревню. «Как название?» Переводчик молчит. «А ну-ка, ребятушки!» Казаки его сейчас нагайками. Переводчик говорит: «Бутунду». А «бутунду» по-китайски значит: «не понимаю». «Ага, заговорил, сукин сын!» И полковник пишет на кроки: «Деревня Бутунду». Опять едут – опять деревня. «Название?» – «Бутунду». – «Как? Еще Бутунду?» – «Бутунду». Полковник опять пишет: «Бутунду». Так он десять деревень назвал «Бутунду», и вышел он, как у Чехова: «Хоть ты, говорит, – Иванов седьмой, а все-таки дурак!»
– А-а! Вы знаете Чехова? – спросил Щавинский.
– Кого? Чехова? Антошу? Еще бы, черт побери!.. Друзья! Пили мы с ним здорово… Хоть ты, говорит, и седьмой, а все-таки дурак…
– Вы с ним там на Востоке виделись? – быстро спросил Щавинский.
– Как же, обязательно на Востоке. Мы, брат, бывало, с Антон Петровичем… Хоть ты и седьмой, а…
Пока он говорил, Щавинский внимательно наблюдал за ним. Все у него было обычное, чисто армейское: голос, манеры, поношенный мундир, бедный и грубый язык. Щавинскому приходилось видеть сотни таких забулдыг-капитанов, как он. Так же они осклаблялись и чертыхались, расправляли усы влево и вправо молодцеватыми движениями, так же вздергивали вверх плечи, оттопыривали локти, картинно опирались на шашку и щелкали воображаемыми шпорами. Но было в нем и что-то совсем особенное, затаенное, чего Щавинский никогда не видел и не мог определить – какая-то внутренняя напряженная, нервная сила. Было похоже на то, что Щавинский вовсе не удивился бы, если бы вдруг этот хрипящий и пьяный бурбон заговорил о тонких и умных вещах, непринужденно и ясно, изящным языком, но не удивился бы также какой-нибудь безумной, внезапной, горячечной, даже кровавой выходке со стороны штабс-капитана.
В лице его поражало Щавинского то разное впечатление, которое производили его фас и профиль. Сбоку это было обыкновенное русское, чуть-чуть калмыковатое лицо: маленький выпуклый лоб под уходящим вверх черепом, русский бесформенный нос сливой, редкие, жесткие черные волосы в усах и на бороденке, голова коротко остриженная, с сильной проседью, тон лица темно-желтый от загара… Но, поворачиваясь лицом к Щавинскому, он сейчас же начинал ему кого-то напоминать. Что-то чрезвычайно знакомое, но такое, чего никак нельзя было ухватить, чувствовалось в этих узеньких, зорких, ярко-кофейных глазках с разрезом наискось, в тревожном изгибе черных бровей, идущих от переносья кверху, в энергичной сухости кожи, крепко обтягивающей мощные скулы, а главное, в общем выражении этого лица – злобного, насмешливого, умного, даже высокомерного, но не человеческого, а скорее звериного, а еще вернее – лица, принадлежащего существу с другой планеты.
«Точно я его во сне видел», – подумал Щавинский.
Всматриваясь, он невольно прищурился и наклонил голову набок.
Рыбников тотчас же повернулся к нему и захохотал нервно и громко.
– Что вы на меня любуетесь, господин писатель? Интересно? Я, – он возвысил голос и с смешной гордостью ударил себя кулаком в грудь. – Я штабс-капитан Рыбников. Рыб-ни-ков! Православный русский воин, не считая, бьет врага. Такая есть солдатская русская песня. Что? Не верно?
Кодлубцев, бегая пером по бумаге и не глядя на Рыбникова, бросил небрежно:
– И, не считаясь, сдается в плен.
Рыбников быстро бросил взгляд на Кодлубцева, и Щавинский заметил, как в его коричневых глазах блеснули странные желто-зеленые огоньки. Но это было только на мгновение. Тотчас же штабс-капитан захохотал, развел руками и звонко хлопнул себя по ляжкам.
– Ничего не поделаешь – божья воля. Недаром говорится в пословице: нашла коса на камень. Что? Не верно? – Он обратился вдруг к Щавинскому, слегка потрепал его рукою по колену и издал губами безнадежный звук: фить! – Мы всё авось, да кое-как, да как-нибудь – тяп да ляп. К местности не умеем применяться, снаряды не подходят к калибрам орудий, люди на позициях по четверо суток не едят. А японцы, черт бы их побрал, работают, как машины. Макаки, а на их стороне цивилизация, черт бы их брал! Что? Не верно я говорю?
– Так что они, по-вашему, пожалуй, нас и победят? – спросил Щавинский.
У Рыбникова опять задергались губы. Эту привычку уже успел за ним заметить Щавинский. Во все время разговора, особенно когда штабс-капитан задавал вопрос и, насторожившись, ждал ответа или нервно оборачивался на чей-нибудь пристальный взгляд, губы у него быстро дергались то в одну, то в другую сторону в странных гримасах, похожих на судорожные злобные улыбки. И в то же время он торопливо облизывал концом языка свои потрескавшиеся сухие губы, тонкие, синеватые, какие-то обезьяньи или козлиные губы.
– Кто знает! – воскликнул штабс-капитан. – Один бог. Без бога ни до порога, как говорится. Что? Не верно? Кампания еще не кончена. Все впереди. Русский солдат привык к победам. Вспомните Полтаву, незабвенного Суворова… А Севастополь! А как в двенадцатом году мы прогнали величайшего в мире полководца Наполеона. Велик бог земли русской! Что?
Он заговорил, а углы его губ дергались странными, злобными, насмешливыми, нечеловеческими улыбками, и зловещий желтый блеск играл в его глазах под черными суровыми бровями.
Щавинскому принесли в это время кофе.
– Не хотите ли рюмочку коньяку? – предложил он штабс-капитану.
Рыбников опять слегка похлопал его по колену.
– Нет, спасибо, голубчик. Я сегодня черт знает сколько выпил. Башка трещит. С утра, черт возьми, наклюкался. Веселие Руси есть пити. Что? Не правда? – воскликнул он вдруг с лихим видом и внезапно пьяным голосом.
«Притворяется», – подумал Щавинский.
Но почему-то он не хотел отстать и продолжал угощать штабс-капитана.
– Может быть, пива? Красного вина?
– Нет, покорно благодарю. И так пьян. Гран мерси .
– Сельтерской воды?
Штабс-капитан оживился.
– Ах, да, да! Вот именно… именно сельтерской… стаканчик не откажусь.
Принесли сифон. Рыбников выпил стакан большими жадными глотками. Даже руки у него задрожали от жадности. И тотчас же налил себе другой стакан. Сразу было видно, что его уже долго мучила жажда.
«Притворяется, – опять подумал Щавинский. – Что за диковинный человек! Он недоволен, утомлен, но ничуть не пьян».
– Жара, черт ее побери, – сказал Рыбников хрипло. – Однако я, господа, кажется, мешаю вам заниматься.
– Нет, ничего. Мы привыкли, – пробурчал Ряжкин.
– А что, нет ли у вас каких-либо свежих известий с войны? – спросил Рыбников. – Эх, господа! – воскликнул он вдруг и громыхнул шашкой. – Сколько бы мог я вам дать интересного материала о войне! Хотите, я вам буду диктовать, а вы только пишите. Вы только пишите. Так и озаглавьте: «Воспоминания штабс-капитана Рыбникова, вернувшегося с войны». Нет, вы не думайте – я без денег, я задарма, задаром. Как вы думаете, господа писатели?
Владимир
/ 18.07.2019
Это просто смешно! Рыбников совершенно не разбирается в науках, пожалейте детей - они вырастут идиотами.
Элементарно доказуемо, то что сторонники Рыбникова невежды и не образованные люди - все положительные комментарии написаны с ошибками...
Родомир
/ 12.06.2019
Здравия всем!
Где можно приобрести книги?
Сергей / 23.04.2019 Где найти книги для детей по математики и дгугим предметам по знаниям русов. Как их учить правильно. Где их найти
Дмитрий / 4.04.2019 Я за Ю. С. Все говорит и делает правильно, я ваш <одепт>.
Денис / 4.04.2019 Юрий Степанович, хотел бы услышать ваше мнение о магнитном двигателе Серла.
САР
/ 27.03.2019
гневные отзывы понятны...
пусть где то оговариваеться,но по делу на практике так как он говорит,и многое еще необходимо дороботать...
вранье во всех областях,от и до и с ним согласен...
поштудируйте для начала различные вероисповедания и САР,после историю,а далее и во власти и обществе все становиться ясно...
к этому подходить нужно с чистой головой,когда человек подходит к черте и тупику и начинает разбираться,что к чему то очень интересно как нас наябывают...
проштудируйте славяноарийские веды,посетите канал тщательно скрытые истории,почитайте литературу до 90х,ответьте на вопрос простой почему цвет кожи разный,как так?
почему в конституции рф столько бреда и не прописан русский народ,интервью с дудаивым пострите,что он еще в 95 говорил,генерал майор петров лекции,рохлин почему в опозицию ушол...прочитать ошо,ницше,пошнориться по ключу соломона,пифагар не только матиматик,достоевский,изучайте...а после уже и дисскусии разводите....
Максим / 7.03.2019 Глупец потрогал лужу и говорит "Я увидел море!" О, чудо! Рыбников открыл для себя некоммутативную неассоциативную алгебру и возможность введения операторов, тождественных возведению в степень! И с пафосом сектанта учит нас, что это и есть единственно возможная истинная алгебра, а на всё остальное -- троекратная анафема.
Тут есть два варианта: либо он беспробудно туп, либо психически болен. Предпочитаю думать, что он психически здоров. Кстати, передайте Рыбникову, что ускорение измеряется не в "метрах квадратных" , а в метрах на _секунду_ в квадрате.
В его отрицании ноля и отрицательных чисел тоже ничего нового нет: существуют алгебры без нейтрального элемента, ноль и отрицательные числа не считались числами в Древней Греции и всё это преподается уже в школьном курсе. Рыбников не в курсе, что такое "конвенционализм" в математике и не не знает ни ее истории, ни ее современного состояния. Он фантастически туп и свою фантастическую тупость и необразованность компенсирует наглостью и нахрапистостью. и всё-таки, я бы ему рекомендовал провериться у психиатра. Математики часто сходят с ума. За примерами далеко ходить не надо: Курт Гёдель, Джон Нэш, Сергей Салль и пр.
vadim / 1.03.2019 фантастика!! Как может откровенный бред, полностью лишенный логики и здравой мысли, убеждать кого-то? Только мб идиотов!
Денис / 10.02.2019 Мужик здорово расставляет все по своим местам, логично, последовательно, понятно и доходчиво. Моя малая в первом классе учителя уже обучает)))
Нина / 29.01.2019 Юрий Степанович, доброго Вам здравия.
Николай / 22.01.2019 Юрий Степанович, я уважаю Ваш труд. Везде указано что Вы 1955 г.р. Но есть и 1944 Как на самом деле?
Валентин / 21.01.2019 Юрий Степанович, Я с большим удовольствием читаю и просматриваю Ваши видео ролики. Сам Я изобретатель лет 20, а может и больше изучаю и работаю в области без топливной энергетики, хочется с вами пообщаться по скайпу если вы дадите свои реквизиты буду очень признателен моя почта [email protected] тел. 096-237- 65- 60
Гендель / 15.01.2019 Полнейший бред
Алексей / 3.01.2019 Для тех гнусов что хаят Рыбникова Ю.С. - вы внимательней слушайте его ликции, и САМИ попробуйте разобраться о чём Ю.С. толкует, когда опытом-практикой докажете а потом и покажете что это всё бред, только тогда высказывайтесь отрицательно, а так это выглядит как тяфканье дворнажки.
Шариков / 11.11.2018 Востребованность Рыбникова (как и в своё время Чумака или Кашпировского) объясняется, имбецильностью достаточно значительной массы населения и отсутствием качественного образования.
Гор-Ох согласно греческим и египетским сведениям был последним допотопным божественным царем всего мира и первым царем Севера. С. В. Жарникова. ПРИ ЦАРЕ ГОРОХЕ...ИЛИ СВЯЩЕННЫЙ ЯЗЫК ЕГИПТА. В русском языке имеется постоянный отсыл древнему времени, мифическому, но тем не менее реальному – «при царе Горохе». Термин существует еще только в белорусском и малороссийском говорах. Упоминается он и сказке «О трёх царствах». Древнее время понятно характеризуются наличием молочных рек с кисельными берегами. Но почему царя именуют Горохом, неясно. Между тем, то, что это собственное имя, свидетельствует наличие имени у его царицы – Анастасия (возвращенная к жизни). Некоторые современные специалисты предполагают, что все дело в тонкой народной шутке. Но царь Горох упоминается в русских сказах записанных, как и былины, на Русском Севере. Эти сказания не когда ни относились к народной шутке. Академик Борис Александрович Рыбаков пишет: «В древнейший период следует отнести сказки о Котигорохе, легенды о Кузьмодемьяне и сказки «О трёх царствах»… Время Царя-Гороха – это, очевидно, время первых киммерийских наездов, когда не укрепленные ещё поселения чернолесских племен были сожжены первыми нападениями степняков около X в. до н. э». Прав был В. Я. Пpопп, писавший о том, что сказки следует сопоставлять по их «составным частям», по «устойчивым элементам», каковыми, по его мнению, являются функции действующих лиц. Но самостоятельным элементом, устойчивым в себе, могут быть не только функции, но и имена героев, их происхождение, обстоятельства места. Восточнославянская сказка в том её виде, в каком её записали фольклористы XVIII – XX вв., не адекватна своему далекому эпическому протооригиналу, так как эти её элементы по воле позднейших сказочников перемещались вовне и этим затрудняли реконструкцию первоначального облика каждого отдельного произведения… богатыри другого типа: Гоp-Гоpовик (Гоpыня, Веpтогоp, Пеpевеpни-Гоpа), Дyб-Дyбовик (Веpни-Дyб, Дyбодеp и дp.) и Усыня (Веpни-Вода, Запpи-Вода и др.). Это – великаны титанической силы, сдвигающие горы, выдергивающие дубы с корнем и запруживающие реки своими усами. Великаны встречаются в разных сказках, но «весьма типичны для сказок о трех царствах». Трудно сказать, из каких глубин первобытности идут эти образы титанов, изобретенных народной фантазией для облегчения действий главного героя-змееборца. Это не олицетворение сил природы, так как здесь нет ни земли, ни ветра, ни солнца... Точно так же трудно определить, к какому сказочному комплексу они относились первоначально, так как они встречаются и в сказках о Горохе, и там, где действуют три брата… И действительно, наши братья-богатыри, отправляясь в чужедальнюю сторону, едут по «дикой степи», добираются до синего моря, идут по берегу и в конце концов оказываются у подножия высочайшей горы или у какой-то пропасти, ущелья, ведущего под землю. Далее начинается устойчивый сюжет, определяющий иногда название всей сказки: «Три царства – медное, серебряное и золотое». Ю.М.Соколов называет её «самой популярной сказкой русской устной традиции», насчитывая 45 только русских вариантов (не считая украинских и белорусских). Воспользуюсь его кратким пересказом основной схемы сказки о трех царствах: «Герои идут на поиски исчезнувших царевен… Три царства могут быть не только под землей, но и на «высочайшей горе». Однако в любом случае, идет ли речь о пропасти или о горе, трудности вертикального движения остаются, и герой спускается или взбирается с помощью веревок, полотнищ, которые держат его братья. По преодолении этого горного препятствия происходит бой Световика-Светозаpа со Змеем (обязательно многоголовым) и освобождение матери героя и прекрасных царевен трех царств. Здесь после достижения основной цели богатырского похода братья его пытаются убить или оставить в подземелье, перерезав веревку, на которой вытягивали его на белый свет. Преодолев коварство братьев, Светозаp в конце концов получает золотое царство и его царевну, а его братья – серебряное и медное». Борис Александрович Рыбаков относит время Царя-Гороха – к эпохе 10 в.д.н.э., а весь смысловой ряд сказки «Три царства – медное, серебряное и золотое», к эпохе первичного освоения металла и земледелия, то есть неолиту-энеолиту. Казалось бы, найти в то далекое время исток для образа Царя-Гороха задача невыполнимая. Но это не так. И для решения ее мы должны обратиться к древнему Египту. Несмотря на столетние попытки классифицировать древнеегипетский язык это не удается. В своем исследовании Т. Бенфей показал близость египетского языка к семитским в области морфологии и предложил разделить семитские языки на две группы, одна из которых должна была включить египетский и другие языки северной Африки. Резко отрицательно отнесся к этой точке зрения Э.Ренан. Он утверждал, что факты, приведенные Т. Бенфеем, случайны и возражал против определения египетского языка как семитского. «Согласно генеалогической классификации языков (т.е. классификации по родству) египетский язык относят к семито-хамитическим языкам». «В языкознании неоднократно делались попытки сблизить египетский язык, и даже семито-хамитские языки в целом, с языками других групп, прежде всего с африканскими… До настоящего времени делаются попытки доказать связь семито-хамитских языков, в частности египетского, с языками индоевропейскими». В итоге изучения, к началу 21 века, лингвисты пришли к выводу: «Древнеегипетский язык - язык, на котором говорили древние египтяне, населявшие долину Нила к северу от первого из нильских порогов. Образует одну из ветвей афразийских языков, носящую название египетской. Имеет ряд схождений в фонетике и морфологии с семитской ветвью афразийской семьи, в связи, с чем некоторые авторы относили его к семитским. Другая достаточно популярная точка зрения заключалась в признании его промежуточным звеном между семитской, берберо-ливийской и кушитской ветвями». Столь спорный результат следовало ожидать, ведь лингвисты пытались классифицировать под видом одного неизменного языка - различные языки, существовавшие и менявшиеся в течение трех тысяч лет. «За множество веков грамматика и словарный состав языка очень сильно изменились, и речь египтян эпохи римского владычества была уже мало похожа на речь времён правления первых династий». «Источники сообщают, что жители Северного и Южного Египта в древности не понимали друг друга, а коптский язык сохранил несколько диалектов. Наиболее существенными были различия в гласных». Следует заметить, что как правило, лингвисты рассматривают только среднеегипетский язык. Под этим термином здесь понимается язык литературных произведений Среднего царства. Отчасти это может быть оправдано тем, что у самих египтян среднеегипетский язык считался классическим и в периоды после Среднего царства. Язык древнего царства, а тем более ранней эпохи неизвестен. Тем не менее, лингвисты полагают, что «искусство письма в Египте всегда оставалось прерогативой консервативной и приверженной традициям прослойки писцов, которые ограничивали степень влияния разговорной речи на mdw nTr – «слова бога». Иероглифическое письмо в Египте называлось mdw nTr - «божественная речь». «Письменность в Египте возникает в очень древние времена: к началу I династии (т.е., видимо, во второй половине IV тысячелетия до н.э.) сложилась в основном ее система, просуществовавшая без существенных изменений несколько тысячелетий… Следовательно, употребление иероглифики охватывает не менее 3,5 тысяч лет, несмотря на все изменения за этот долгий срок в словарном составе языка и в грамматическим строе. Столь длительный срок использования иероглифики показывает, что египетская система письменности в ее первом начертательном виде - иероглифике вполне себя оправдывала как средство общения и была сравнительно легка для носителей языка… Следует удивляться не примитивности египетской системы письма, а ее развитости в период до объединения Египта в одно государство на рубеже IV и III тысячелетий». Академиком Струве было показано, что буквенное письмо существовало в Египте наряду со слоговым, а не как этап его «развития» до «высших» буквенных форм. Предназначалось оно для записи теми же знаками иностранных слов и для объяснения иноземцам египетских слов. У них был выработан алфавит для всех согласных их языка, но чисто алфавитной или даже чисто звуковой их система письменности никогда не стала. Одновременно в Египте использовалось три системы письма, две для языка жрецов и одна для народа. «В Египте он жил у жрецов, овладел всею их мудростью, выучил египетский язык с его тремя азбуками - письменной, священной и символической. Первая из них изображает обычный язык, а две другие - иносказательный и загадочный). Жрецы обучают своих детей двум видам письма: тому, что называется «священным», и используемому во всеобщем обучении…».(Diodorus Siculus). Согласно преданию во времена начала его истории первыми царями Египта были небожители, с ними пришли в Египет «божественная речь», иероглифы, начало культуры и земледелия. «14. Первым делом Осирис, записали они, избавил человечество от каннибализма; ибо после того, как Исида обнаружила плоды пшеницы и ячменя, которые невозделанные росли на земле вместе с другими растениями, но еще неизвестные людям, и когда Осирис также придумал выращивать эти плоды, все люди были рады изменить свою пищу, и в связи с приятным характером вновь открытого зерна и потому, что в их интересах было воздержаться от избиения друг от друга». (Diodorus Siculus) Между 14 и 10 т.д.н. э. Египет пережил период так называемого «преждевременного сельскохозяйственного развития». В 13 т.д.н. э. среди находок палеолитических орудий появляются каменные жернова и серпы, жернова использовались для приготовления растительной пищи. Образцы пыльцы дают основание предполагать, что соответствующим злаком был ячмень. Но вскоре после 10 500 года до н. э. серпы и жернова исчезают; их место по всему Египту занимают каменные орудия охотников, рыболовов и собирателей верхнего палеолита». Египтяне уверяют, что начинателем философии, хранимой жрецами и пророками, был Гефест (Птах), сын Нила; от него до Александра Македонского прошло 48 863 года, и за это время было 373 солнечных затмения и 332 лунных». (Диоген Лаэртский). «13.Гелий был первым царем Египта, его имя такое же, как у небесного светила. 26. Египетские жрецы, считая время от правления Гелия до переправы Александра в Азию, говорят, что округленно было двадцать три тысячи лет. И, как говорят легенды, самый древний из богов правил более чем тысячу двести лет, и более поздние не менее трех сотен. 23. Говорят, число лет от Осириса и Исиды до царствования Александра, который основал в Египте город, носящий его имя, более десяти тысяч, но, по мнению других авторов, немного меньше, чем двадцать три тысячи… 44.Некоторые рассказывают, что сперва Египтом управляли боги и герои в течение без малого восьмидесяти тысяч лет (вариант-восемнадцати тысяч лет), и из числа богов последним царствовал Гор, сын Исиды. Люди же, как говорят, управляли страной начиная с Мэрида почти пять тысяч лет вплоть до сто восьмидесятой Олимпиады, когда мы посетили Египет … Обо всех них у жрецов имелись записи в их священных книгах, которые они с древнейших времен всегда передавали своим преемникам… 45.По преданию, после богов, первым царем в Египте был Менас…». (Diodorus Siculus) «Они были первыми, кому принадлежала власть в Египте. Впоследствии царская власть переходила не прерываясь от одного к другому… в течение 13 900 лет… После богов 1255 лет правили полубоги; после них в течение 1817 лет царствовала другая линия. Затем следующие тридцать царей правили 1790 лет, а потом десять - 350. Затем последовало правление духов мертвых… которое продолжалось 5813 лет…». (Евсевий Памфил). «Египтяне утверждают, что они - самый древний народ. В их достоверных летописях сообщается, что до Амасиса правило триста тридцать царей. Древность этих летописей определяется цифрой более чем в тринадцать тысяч лет. Из летописей следует, что за время существования египтян созвездия четырежды меняли свой путь, и солнце дважды заходило там, где оно теперь восходит». (Помпоний Мела). Юлий Африкан в «Историографии» появление Египта относил к 9500 г.д.н.э. «Действительно, египтяне, гордясь своим древним происхождением, с помощью астрологов составили свое летоисчисление, деля время на циклы. Те же, кто снискал репутацию сведущих в этом деле мудрецов, научились вести исчисление по лунным годам, и, будучи не менее других склонны верить легендам и мифам, считают, что их народ появился восемь, а то и девять тысяч лет до правления Солона (об этом говорится даже у Платона)». (Юлий Африкан). «О Геракле же я слышал, что он принадлежит к сонму двенадцати богов… Но Геракл – древний египетский бог, и, как они сами утверждают, до царствования Амасиса протекло 1700 лет с того времени, как от сонма восьми богов (первого поколения) возникло двенадцать богов, одним из которых они считают Геракла». (Геродот). Манефон упоминает три четко определяемые эпохи до Менеса: царствование бога Гора, правление полубогов, которое наступило после царствования Гора; это правление продолжалось 15150 лет; затем додинастическое правление, которое длилось еще 13777 лет; в сумме это давало 28927 лет от Гора до Менеса. Согласно Евсевию, царствование богов продолжалось 13 900 лет, а полубоги правили 11 000 лет. Канон династий Евсефия начинает первую династию в 5483 г.д.н.э. Георгий Синкелл первую (допотопную) династию датирует 6200-5000 г.д.н.э., а первую послепотопную династию с 4955 г.д.н.э. Канон Синкела 1729 года относит ее к 2724 г.д.н.э., а греческий вариант к 1789 г.д.н.э. Атанасиус Кирхер первую (допотопную) династию относит к 2954-2030 г.д.н.э. Джеймс Усшер датировал возникновение Египетского государства 2188г.д.н.э. Встречается и другая версия хронологии, ссылающаяся на Манефона: вначале, в течение 12 300 лет, Египтом правили семь великих богов: Птах - 9000 лет, Pa - 1000 лет, Шу - 700 лет, Геб - 500 лет, Осирис - 450 лет, Сет - 350 лет и Гор - 300 лет. Во второй династии богов было 12 божественных правителей - Тот, Маат и десять других - они правили страной 1570 лет. Третья династия состояла из 30 полубогов, правивших 3650 лет. Четвертый период, продолжавшийся 350 лет, был периодом хаоса, когда Египет был разобщен. Закончился этот период объединением Египта при Менесе. Источники говорят о том, что период между правлениями Осириса и Менеса, в течение которого египетский трон занимали боги или полубоги, был чрезвычайно длительным. Туринский папирус отводит предшественникам Шемсу-Гор 23 200 лет, а самим Почтенным Шемсу-Гор – 13 420 лет. Таким образом, общая продолжительность периода составляет 36 620 лет. Следует отметить, что в этот период не включено правление богов. Из уцелевших фрагментов о третьей эпохе, предшествующей Менесу, можно установить, что в документе упоминались девять династий, в том числе «Почтенные из Мемфиса», «Почтенные с Севера» и, наконец, Шемсу-Гор, которые правили вплоть до Менеса. Тогда же, как полагали египтяне, были получены знания жрецов, изобретены геометрия, письменность и принят общий язык. «13. ...египтяне назвали богами Гора, Исиду, Осириса и подобных им, которые тоже были людьми. По богатству мудрости, хвалясь изобретением геометрии, астрономии и арифметики...». (Евсевий Кесарийский). «16. Например, этим Гермесом, по их мнению, был впервые тщательно проработан общечеловеческий язык, и что многие предметы, которые были до сих пор безымянные, получили название, что им был изобретен алфавит…».((Diodorus Siculus)). «…Они считают, что мир шарообразен, что он рождён и смертен; что звёзды состоят из огня и огонь этот умеряясь, даёт жизнь всему, что есть на земле; что затмения луны бывают оттого, что луна попадает в тень земли; что душа переживает своё тело и переселяется в другие; что дождь получается из превращённого воздуха; эти и другие их учения о природе сообщают Гекатей и Аристагор. А в заботе своей о справедливости они установили у себя законы и приписали их самому Гермесу (Тоту). Полезных для человека животных они считают богами; говорят также, будто они изобрели геометрию, астрономию и арифметику. Вот что известно об открытии философии». (Диоген Лаэртский). Можно предположить, что священная речь и обычный язык в Египте были похожи. Но жречество в Египте имело свои бытовые особенности, не характерные для местного населения. «Однако большинству людей непонятны даже такие самые общеизвестные и незначительные правила: почему жрецы удаляют волосы и носят льняные одежды». (Плутарх). «Египтяне – самые богобоязненные люди из всех, и обычаи у них вот какие… Одеяние жрецы носят только льняное и обувь из лыка (лапти?). Иной одежды и обуви им носить не дозволено… Жрецы не терпят даже вида бобов, считая их нечистыми плодам». (Геродот). При этом родиной бобов полагают Средиземноморье и в частности Египет. Пищевые бобы (Faba bona) росли по всему Египту. Запрет на употребление бобов у жрецов находит рациональное объяснение в их свойствах. Нельзя употреблять в пищу сырые и незрелые бобы, так как это приведет к разрушению клеток крови. Бобы содержат цитогенетический гликозид фазеолунатин. Неверно приготовленные бобы способны вызывать отравления. Опытные кулинары советуют предварительно замачивать бобы на 4-5 часов в холодной воде, затем варить 1-2 часа. В противном случае сохраняются токсины, способные вызвать отравление, сопровождаемое рвотой, пожелтением склер. Пурины, которыми богаты бобы, могут нанести вред людям, страдающим острым нефритом, подагрой, сердечной недостаточностью, тромбофлебитом, заболеваниями желудка и поджелудочной железы. В Россию бобы попали из Западной Европы после 10 в. Севернее 60 параллели бобы не вызревают, южнее дают нормальные плоды. Не удивительно, что именно на Севере считающиеся ядовитыми бобы не получили распространения. Также египтяне полагали, что Осирис и Исида научили их выращивать плоды пшеницы и ячменя. Но это растения Севера, длинного светового дня, не характерные для широт Египта. Тем более что античные авторы отмечали богатство страны дикорастущей пищей. «10.Ныне у египтян существует примерно такой рассказ: Когда зародилась Вселенная, первые люди появились в Египте, и в связи с благоприятным климатом страны и силу особенностей Нила. Ибо этот поток, поскольку он производит многообразие жизни и обеспечивает самопроизвольную поставку пищи, легко обеспечивает все порожденные живые существа; корень тростника и лотоса, а также египетские бобы и, так называемый, корсей и множество других подобных растений, снабжают род людей питанием, готовым к использованию». ((Diodorus Siculus)). Все это говорит о том, что «общечеловеческий язык» Гермеса, как «священное письмо» древнего Египта могли быть принесены из других стран. Нет ли здесь связи с Царем-Горохом русских сказок? Согласно египетским и греческим источникам последним из богов Египтом правил Гор, сын Исиды. После него трон Египта занимали несколько династий (семь по Туринскому папирусу, четыре по Евсевию) полубогов. Затем к власти пришли те, кого Туринский папирус называет «Духами, Слугами Гора» (Akhu, Shemsu-Hor). Египетские предания считают этих правителей непосредственными предшественниками исторических династий. Туринский папирус дает сведения о божественных династиях. Один фрагмент сохранился почти полностью. В нем указаны Царь Верхнего и Нижнего Египта, Гор, Жизнь, Здоровье, Сила, 300 лет и последний царь династии - Царь Верхнего и Нижнего Египта, Гор. Манефон приводит династию семи царей от Гефеста до Гора, сына Исиды. Вторая божественная династия по Синкеллу включала Гора, сына Исиды и Аполлона (Гор Бехдетский). Георгий Синкелл указывал на правление Гора (Orus) в 5214-5189 г.д.н.э. Атанасиус Кирхер помещал правление Гора-Тота (Horus-That) в 2046-2030 г.д.н.э. Диодор Сицилийский указывал: «25. И представляется, что Гор последний из богов был царем, после того, как его отец Осирис покинул людей. Кроме того, говорят, что имя Гора в переводе - это Аполлон, и что, получив обучение от своей матери Исиды в медицине и гадании, он теперь благодетельствует роду человеческому своими пророчествами и исцелениями. Третья династия Манефона состояла из обожествленных героев. Возможно, эта третья династия численно соответствовала третьей Гелиопольской Девятке, включавшей «детей Гора, сына Исиды, бога Буто» и «детей Гора Хентихети, бога Атрибиса». То есть это эпоха неолита-энеолита с которой связывают создание эпоса о трех царствах. Предполагается, что при Царе Северного и Южного Египта, Гебе страна была разделена. Геб говорит Гору и Сету: «Я отдал вам свои доли, Южный Египет - Сету, а Северный Египет - Гору». «Геб отдал свои наделы Сету и Гору. Он запретил им враждовать. Он назначает Сета царем Юга в Верхнем Египте, в месте, где он был рожден, в Су. Затем Геб утверждает Гора царем Севера в Нижнем Египте, месте, где утонул отец Гора, разделив таким образом землю. Затем Гор и Сет царствуют каждый на своей территории. Они даруют мир двум странам в Туре, на рубеже двух стран… С этого времени Гор и Сет живут в мире. Два брата объединились и больше не враждуют. Они граничат в Хет-Ка-Птахе (Мемфисе), это место равновесия двух стран». Гор Старший, первый царь Северного Египта, правил в Летополе (город Леты) и Сет, первый царь Южного Египта в Нубте (Омбос, Ком-Омбоу), расположенный в пятидесяти километрах от Асуана. Гор правил мудро и справедливо, а Сет, наоборот, плохо и несправедливо. Геб выразил недовольство, отобрал у Сета царство и отдал его Гору. Цари Севера называли себя наследниками и преемниками Гора, сына Исиды, их можно считать ранними «Слугами Гора» Туринский папирус хранит память о «девятнадцати царях Белых Стен и девятнадцати Великих Севера», предшественниках Слуг Гора. О царях Юга не упоминается. Затем «Akhu-Hor» из Летополя завоевывают Южный Египет и в нем разделяются на царей Севера и царей Юга. Став владыками Дельты они сделали своей столицей Буто. Вторая ветвь этих Последователей Гора, обосновавшись на Юге, создала точную копию царства в верхней долине На последнем этапе наследники Гора объединили два царства. Египетские и греческие источники сходятся в том, что после богов и Слуг Гора трон Египта занял Менес, первый царь объединенного Египта и основатель земной династии царей. Официальный титул царей включал в себя: 1) титул Гора, 2) титул царя, носящего Две Короны, 3) титул царя Верхнего и Нижнего Египта Каждый из этих титулов мог дополняться именем, которое носил царь. Титул Гора состоит из имени, такого как Aha, «Воина», начертанного на схеме царского дворца с Соколом восседающим наверху. Это означает, что царь является воплощением на земле Сокола-Гора (Апполона) Таким образом, имя царя объединенного Египта при первой династии, равно и последнего царя божественной династии звучало как Гор-Ах (Гор-Воин) или в сохранившемся у греков варианте Гор-Ох (Гор-Меч). К тому же исследователи полагают, что египетские писцы не обозначали на письме гласные звуки. «Исследователь староегипетского, среднеегипетского, новоегипетского и отчасти демотического языка находится в положении палеонтолога, который восстанавливает внешний облик ископаемого существа по его костяку. Египтологам приходится иметь дело лишь с письменным «скелетом» слов, написанных одними согласными». Гор был не только последним царем божественной династии всего Египта, но и первым царем Северного Египта. Но мог ли он иметь отношение к русскому эпосу? Страна, которую историки называют Древний Египет, сама называлась страной Кеми (Кемь). Точно также, у староверов, именовалась страна на севере современных Финляндии и Карелии – страна Кеми (Кемь), известная «Кемска волость», которой безуспешно добивались шведы. На то, что древний Египет состоял из удаленных частей, указывали и историки. Эккехард из Ауры пишет: «В это же время жили аргонавты, которые вместе с Ясоном отправились в Колхиду, чтобы похитить золотое руно. Тогда же в Трое правил Лаомедон, а после него – его сын Приам, при котором Троя была взята. В то же самое время Весоцес, царь Египта, стремясь либо объединить войной, либо соединить властью север и юг страны, разделённые почти как небо и земля, первый объявил скифам войну, отправив предварительно послов, чтобы те передали врагам условия подчинения. Скифы же ответили послам, что могущественнейший царь напрасно затеял против бедного народа войну, которой скорее сам должен бояться из-за переменных успехов; ввиду неясного исхода войны приобретения будут ничтожны, а потери очевидны. Далее, чтобы не ждать, пока он придёт к ним, они ради добычи сами решили, вышли ему навстречу. И, не медля, принялись выполнять сказанное; сначала они заставили бежать в своё царство приведённого в ужас Весоцеса, а затем напали на брошенное им войско, захватили всё воинское снаряжение и разорили бы весь Египет, если бы не были задержаны болотами Нила. Тут же возвратившись оттуда, они в ходе несчётных войн покорили всю Азию. Они были теми, кого позже назвали гетами или готами, и которые таким образом первыми вышли в это время из Скифии». Другие авторы уточняют, что Весоцес дошел до северных пределов Колхиды, Танаиса и Фракии, так что север страны (Кеми) должен был лежать еще дальше. Интересен также фрагмент египетского сказания «13. Некоторые жрецы, однако, говорят, что Гефест (Птах) был первым царем, поскольку он был первооткрывателем огня и получил власть за эту услугу человечеству, когда однажды в дерево в горах ударила молния, и лес вокруг загорелся, Гефест подошел к нему, ибо это было зимой, и он очень любил тепло; когда огонь утих, он продолжал добавлять топливо, сохраняя при этом огонь, и такой способ насладиться преимуществом, которое пришло от него, он предложил остальному человечеству… Затем Крон стал правителем...» (Diodorus Siculus). Хотя теоретически холодный зимний лес возможен и в долине Нила, но более это соответствует обстановке на Севере, тем более в эпоху межледниковья. Кроме того Крона никогда не связывали с югом и всегда только с Севером, Кронийский океан это Северное и Белое моря.