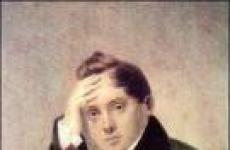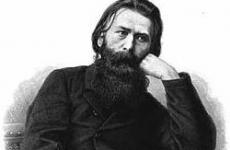Ибн фадлан о русах анализ. Ибн фадлан и его рукопись о принятии ислама на территории волжской булгарии
Ибн-Фадлан о русах (921-922 гг.)
Начнём с того, что отметим: вся информация явно распадается на три куска. Первый, хотя и начинается со слов «Я видел русов», на деле описывает их обычаи неким отстранённым образом, в общем. Что очень хорошо иллюстрируется несовершенным образом действия в употребялемых глагольных формах: «умываются», «сочетаются», «сморкаются».
Вторая часть - рассказ очевидца. Не только потому, что «я прибыл к реке», «я говорил», «я видел». Но и потому, что гони - «принесли», «держали», «пили».
И, наконец, третья часть выделана под описание русов с, так сказать, птичьего полёта - их социального устройства, юриспруденции, взаимоотношений с миром и властью. Каковое описание до цинготной кислоты похоже на подобные описания других арабских авторов.
А потому и рассмотрим мы эти три части отдельно.
Вот первая:
Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атыл. Я не видал [людей] с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом. | Фадлан видел лично: люди с совершенными телами |
Они не носят ни курток, ни хафтанов, но у них мужчина носит кису, которой он охватывает один бок, причем одна из рук выходит из неё наружу. | |
И прикаждом из них имеется топор, меч и нож, [причем] со всем этим он [никогда] не расстается. | |
Мечи их плоские, бороздчатые, франкские. | Они же сулеймановы |
И от края ногтей иного из них [русов] до его шеи [имеется] собрание деревьев, изображений [картинок] и тому подобного. | Некоторые балуются тату |
А что касается их женщин, то на [каждой] их груди прикреплена коробочка, или из железа, или из серебра, или из меди, или из золота, или из дерева в соответствии с размерами [денежных] средств их мужей. И у каждой коробочки — кольцо, у которого нож, также прикреплённый на груди. | Это описание непонятно совершенно |
На шеях у них - мониста из золота и серебра, так что если человек владеет десятью тысячами дирхемов, то он справляет своей жене один [ряд] мониста, а если владеет двадцатью тысячами, то справляет ей два [ряда] мониста, и таким образом каждые десять тысяч, которые он прибавляет к ним [дирхемам], прибавляют [рад] мониста его жене, так что на шее иной из них бывает много [рядов] монист. | Дирхем - старинная арабская серебряная монета, которая равнялась 2,97 г чистого серебра. Значит, один рад мониста символизировал владение почти 30 кг серебра. При стоимости серебра по состоянию на 21 мая 2010 года в 18,32 рубля за 1 грамм это монисто символизировало владение примерно в 544 тысячи рублей. Похоже, «купили» арабского путешественника, посмеялись над беднягой. |
Самым великолепным украшением [считаются] у них зелёные бусы из той керамики, которая бывает на кораблях. Они делают [для приобретения их] исключительные усилия, покупают одну такую бусину за дирхем и нанизывают [их] в качестве ожерелий для своих жён. | Что за бусы из керамики, «которая бывает на кораблях», решительно непонятно. Но если бусина стоит всего дирхем, то непонятно, с чего ради предпрннимать бешеные усилия для покупки очевидной дешёвки, и как дешёвка, приравненная к шкурке белки, может вызывать такой ажиотаж. Снова некоего (не обязательно Фадлана) путешественника «развели». |
Дирхемы русов — серая белка без шерсти, хвоста, передних и задних лап и головы, [а также] соболи. Если чего-либо недостает, то от этого шкурка становится бракованной [монетой]. | Это векша. Самая мелкая денежная единца на Руси. |
Ими они совершают меновые сделки, и оттуда их нельзя вывезти, так что их отдают за товар. Весов там не имеют, а только стандартные бруски металла. Они совершают куплю-продажу посредством мерной чашки. | Русы знают весы - в их могилах нередко встречаются. |
Они грязнейшие из творений Аллаха, — они не очищаются ни от экскрементов, ни от урины, не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они, как блуждающие ослы. | Сравниваем: Я не видал [людей] с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, белокуры, красны лицом, белы телом. Не похоже на текст одного и того же человека. Сравниваем ещё: У них обязательно каждый день умывать свои лица и свои головы |
Они прибывают из своей страны и причаливаютсвои корабли на Атыле, — а это большая река, — и строят на её берегу большие дома из дерева. И собирается [их] в одном [таком] доме десять и двадцать,—меньше или больше. У каждого [из них] скамья, на которой он сидит, и с ними [сидят] девушки-красавицы для купцов. | Сравниваем: Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились у реки Атыл. Снова не похоже на текст, созданный одним человеком. Большие дома - это явно «длинные дома» скандинавского типа и точно не славянские полуземлянки. «Скамья» же - явное описание не скамеек вдоль стен, где все сидят и таращатся друг на друга, а - раз уж скамья у каждого - описание некоего раздела большого дома на отсеки. Относительный раздел, не как купе в поезде, - но всё же как плацкарта. В этом же «купе» размещают рабынь, возимых для продажи. |
И вот один [из них] сочетается со своей девушкой, а товарищи его смотрят на него. А иногда собирается [целая] группа из них в таком положении один против другого, и входит купец, чтобы купить у кого-либо из них девушку, и наталкивается на него, сочетающегося с ней. Он же не оставляет её, пока не удовлетворит своей потребности. | Не исключено, но слишком идеологично. Чтобы быть описанием очевидца. Кто-то добавил «моралите» в описание обычаев «неверных». |
У них обязательно каждый день умывать свои лица и свои головы самой грязной водой, какая только бывает, и самой нечистой. А это [бывает] так, что девушка является каждый день утром, неся большую лохань с водой, и подносит её своему господину. Он же моет в ней свои руки, своё лицо и все свои волосы. И он моет их и вычёсывает их гребнем в лохань. Потом он сморкается и плюёт в неё и не оставляет ничего из грязи, чего бы он ни сделал в эту воду. Когда же он покончит с тем, что ему нужно, девушка несёт лохань к сидящему рядом с ним, и [этот] делает то же, что сделал его товарищ. И она не перестает подносить её от одного к другому, пока не обнесёт ею всех, находящихся в [этом] доме, и каждый из них сморкается, плюёт и моет свое лицо и свои волосы в ней. | Если есть обычай умываться каждый день, то специально искать для этого самую грязную воду человек не будет. Точно так же девушка одного господина не будет односить лохань чужим господам, а те, соответственно, не будут мыться вслед за равным по статусу. Но сам обычай предельно прозрачно описывает принятые вплоть до середины ХХ века в Англии и немного раньше того закончившиеся в Европе обычаи мытья одной семьи в одной лохани. Следовательно, это либо кусок, взятый из сочинений о «нечистых» обычаях «франков» вообще, либо описание русов как «франков». |
И как только их корабли прибывают к этой пристани, тотчас выходит каждый из них, [неся] с собою хлеб, мясо, лук, молоко и набиз, чтобы подойти к длинному воткнутому [в землю] бревну, у которого [имеется] лицо, похожее на лицо человека, а вокруг него маленькие изображения, а позади этих изображений длинные брёвна, воткнутые в землю. | Описание святилища похоже на славянское. Длинные брёвна, воткнутые в землю позади изображений - очевидная граница святилища. Вопрос: отчего избу-гостиницу русы вынуждены строить каждый раз по прибытии в Булгар, а их святилище стоит вечно целым? Ответ: перед нами общее, в целом, описание обычаев торговых русов. |
Итак, он подходит к большому изображению и поклоняется ему, потом говорит ему: «О мой господь, я приехал из отдалённой страны, и со мною девушек столько-то и столько-то голов и соболей столько-то и столько-то шкур»,— пока не назовёт всего, что прибыло с ним из его товаров | Снова внешнее описание. |
«и я пришёл к тебе с этим даром», — потом [он] оставляет то, что имел с собой, перед [этим] бревном, — «итак, я желаю, чтобы ты пожаловал мне купца, имеющего многочисленные динары и дирхемы, чтобы он покупал у меня в соответствии с тем, что я пожелаю, и не прекословил бы мне ни в чём, что я говорю». Потом он уходит. | На самом деле до боли напоминает одну из популярных среди арабских купцов молитв, начинанающуюся с призыва: «Алла, ама ахалб!» |
Итак, если продажа для него будет трудна и пребывание его затянется, то он снова придёт со вторым и третьим подарком, и если [для него] будет затруднительно добиться того, чего он хочет, он понесёт к каждому из маленьких изображений подарок, попросит их о ходатайстве и скажет: «Эти — жёны нашего господа, дочери его и сыновья его». | Очевидное описание не очевидца. Во всяком случае, человека, плохо знакомого с культом и удовлетворённого объяснением, что младшие боги есть жёны и дети старшего. |
Итак, он не перестаёт обращаться с просьбой то к одному изображению, то к другому, просить их, искать у них заступничества и униженно кланяться перед ними. Иногда же продажа пойдёт для него легко и он продаст. Тогда он говорит: «Господь мой удовлетворил мою потребность, и мне следует вознаградить его». И вот он берёт некоторое число овец илирогатого скота, убивает их, раздаёт часть мяса, а оставшееся несёт и оставляет между тем большим бревном и стоящими вокруг него маленькими и вешает головы рогатого скота или овец на это воткнутое в землю дерево. Когда же наступит ночь, придут собаки и съедят всё это. И говорит тот, кто это сделал: «Господь мой уже стал доволен мною и съел мой дар». | Это уже - знакомоме описание скандинавских святилищ, на которых вывешивались черепа жертв. Впрочем, подобные же обычаи существовали и на славянских святилищах. |
Если кто-либо из них заболел, то они разобьют для него палатку в стороне от себя, оставят его в ней, положат вместе с ним некоторое количество хлеба и воды и не приближаются к нему и не говорят с ним, особенно если он бедняк или невольник, но если это лицо, которое имеет толпу родственников и слуг, то люди посещают его во все эти дни и справляются о нём. | Общее описание |
Итак, если он выздоровеет и встанет, то возвратится к ним, а если он умрёт, то они его сожгут. Если же он был невольник, они оставят его в его положении, [так что] его едят собаки и хищные птицы. | |
Если они поймают вора или грабителя, то они поведут его к длинному толстому дереву, привяжут ему на шею крепкую верёвку и подвесят его на нём навсегда, пока он не распадётся на куски от ветров и дождей. | Пробой в логике, показывающий ещё раз компиляционный характер данного куска. |
Записка» Ахмеда Ибн-Фадлана - чрезвычайно важный источник по истории Восточной Европы X века. Ее автор посетил Волжскую Булгарию в составе посольства аббасидского халифа аль-Муктадира (908-932 гг.). Поездка была предпринята по инициативе правителя Волжской Булгарии, который, желая избавиться от власти хазар, просил покровительства халифа и обещал принять ислам. Посольство вышло из Багдада в 921 г. и прибыло в Волжскую Булгарию в мае 922 г. О его результатах ничего не известно, но Ибн-Фадлан (возможно, второе лицо в посольстве) оставил подробный отчет о путешествии, и в этом отчете приводится множество уникальных сведений этнографического характера о гузах, башкирах, булгарах и хазарах. Кроме этого, Ибн-Фадлан видел в Булгарии русов и оставил подробное описание их погребального обряда. Отчет Ибн-Фадлана был широко известен в арабско-персидском мире. По свидетельству географа XIII века Йакута ар-Руми, работавшего в Мерве, в его время это сочинение было весьма распространено и находилось у многих лиц в восточном Иране. Сам Йакут включил несколько фрагментов из Ибн-Фадлана в свой «Географический словарь», дошедший в нескольких списках. Единственный известный список «Записки» Ибн-Фадлана был обнаружен востоковедом А.З.В.Тоганом (А.З.Валидовым) в 1920-х годах в библиотеке при гробнице имама Али ибн-Риза в Мешхеде (Иран). К сожалению, конец рукописи отсутствует, причем неизвестно, скольких листов не хватает. В 1937 г. фотокопия Мешхедской рукописи была передана в дар Академии наук СССР от правительства Ирана, и на ее основе А.П.Ковалевским было подготовлено издание на русском языке. В 1956 г. им же было подготовлено существенно переработанное и дополненное издание, но наша электронная публикация основана на издании 1939 г. В издании 1237 ссылок, в основном ими отмечены комментарии по существу перевода. Проведено также сравнение текста Мешхедской рукописи со всеми списками словаря Йакута. В электронной публикации мы сочли возможным ограничиться только некоторыми из комментариев и убрать все отсылки на Йакута. Скобками обозначены вставные слова, не имеющие соответствия в арабском оригинале.
КНИГА АХМАДА ИБН-ФАДЛАНА ИБН-АЛЬ-"АББАСА ИБН-РАШИДА ИБН-ХАММАДА,
КЛИЕНТА МУХАММАДА ИБН-СУЛАЙМАНА,
ПОСЛА АЛЬ-МУКТАДИРА К ЦАРЮ СЛАВЯН
Он (Ибн-Фадлан) сказал: я видел русов, когда они прибыли по
своим торговым делам и расположились (высадились) на реке Атиль.
И я не видел (людей) с более совершенными телами, чем они. Они
подобны пальмам, румяны, красны. Они не носят ни курток, ни
хафтанов, но носит какой-либо муж из их числа кису, которой он
покрывает один свой бок, причем одна из его рук выходит из нее. С
каждым из них (имеется) секира, и меч, и нож, и он (никогда) не
расстается с тем, о чем мы (сейчас) упомянули. Мечи их плоские, с
бороздками, франкские. И от края ногтя (ногтей) кого-либо из них
(русов) до его шеи (имеется) собрание деревьев и изображений
(вещей, людей?) и тому подобного.
А что касается каждой женщины
из их числа, то на груди ее прикреплено кольцо или из железа, или
из серебра, или (из) меди, или (из) золота, в соответствии с
(денежными) средствами ее мужа и с количеством их. И у каждого
кольца - коробочка, у которой нож, также прикрепленный на груди.
На шеях у них (женщин) (несколько рядов) монист из золота и
серебра, так как если человек владеет десятью тысячами дирхемов,
то он справляет своей жене одно монисто (в один ряд), а если
владеет двадцатью тысячами, то справляет ей два мониста, и таким
образом каждые десять тысяч, которые у него прибавляются,
прибавляются в виде (одного) мониста у его жены, так что на шее
какой-нибудь из них бывает много (рядов) монист. Самое лучшее из
украшений у них (русов) это зеленые бусы из той керамики, которая
находится на кораблях. Они (русы) заключают (торговые) контракты
относительно них, покупают одну бусину за дирхем и нанизывают,
как ожерелья, для своих жен.
Они грязнейшие из твари Аллаха, -
(они) не очищаются от испражнений, ни от мочи, и не омываются от
половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они как
блуждающие ослы. Они прибывают из своей страны и причаливают свои
корабли на Атиле, а это большая река, и строят на ее берегу
большие дома из дерева, и собирается (их) в одном (таком) доме
десять и (или) двадцать, - меньше и (или) больше, и у каждого (из
них) скамья, на которой он сидит, и с ними (сидят) девушки -
восторг для купцов. И вот один (из них) сочетается со своей
девушкой, а товарищ его смотрит на него. Иногда же соединяются
многие из них в таком положении одни против других, и входит
купец, чтобы купить у кого-либо из них девушку, и (таким образом)
застает его сочетающимся с ней, и он (рус) не оставляет ее, или
же (удовлетворит) отчасти свою потребность.
И у них обязательно
каждый день умывать свои лица и свои головы посредством самой
грязной воды, какая только бывает, и самой нечистой, а именно
так, что девушка приходит каждый день утром, неся большую лохань
с водой, и подносит ее своему господину. Итак, он моет в ней свои
обе руки и свое лицо и все свои волосы. И он моет их и вычесывает
их гребнем в лохань. Потом он сморкается и плюет в нее и не
оставляет ничего из грязи, но (все это) делает в эту воду. И
когда он окончит то, что ему нужно, девушка несет лохань к тому,
кто (сидит) рядом с ним, и (этот) делает подобно тому, как делает
его товарищ. И она не перестает переносить ее от одного к
другому, пока не обойдет ею всех находящихся в (этом) доме, и
каждый из них сморкается и плюет и моет свое лицо и свои волосы в
ней.
И как только приезжают их корабли к этой пристани, каждый из
них выходит и (несет) с собою хлеб, мясо, лук, молоко и набид,
пока не подойдет к высокой воткнутой деревяшке, у которой
(имеется) лицо, похожее на лицо человека, а вокруг нее (куска
дерева) маленькие изображения, а позади этих изображений (стоят)
высокие деревяшки, воткнутые в землю. Итак, он подходит к
большому изображению и поклоняется ему, потом (он) говорит ему:
"О, мой господин, я приехал из отдаленной страны и со мною
девушек столько-то и столько-то голов и соболей столько-то и
столько-то шкур", пока не сообщит (не упомянет) всего, что (он)
привез с собою из (числа) своих товаров - "и я пришел к тебе с
этим даром"; - потом (он) оставляет то, что (было) с ним, перед
этой деревяшкой, - "и вот, я желаю, чтобы ты пожаловал мне купца
с многочисленными динарами и дирхемами, и чтобы (он) купил у
меня, как я пожелаю, и не прекословил бы мне в том, что я скажу.
Потом он уходит.
И вот, если для него продажа его бывает
затруднительна и пребывание его задерживается, то он опять
приходит с подарком во второй и третий раз, а если (все же)
оказывается трудным сделать то, что он хочет, то он несет к
каждому изображению из (числа) этих маленьких изображений по
подарку и просит их о ходатайстве и говорит: "Это (эти) жены
нашего господина, и дочери его, и сыновья его". И (он) не
перестает обращаться к одному изображению за другим, прося их и
моля у них о ходатайстве и униженно кланяясь перед ними.
Иногда
же продажа бывает для него легка, так что он продаст. Тогда он
говорит: "Господин мой уже исполнил то, что мне было нужно, и мне
следует вознаградить его". И вот, он берет известное число овец
или рогатого скота и убивает их, раздает часть мяса, а оставшееся
несет и бросает перед этой большой деревяшкой и маленькими,
которые (находятся) вокруг нее, и вешает головы рогатого скота
или овец на эти деревяшки, воткнутые в землю. Когда же наступает
ночь, приходят собаки и съедают все это. И говорит тот, кто это
сделал: "Уже стал доволен господин мой мною и съел мой дар".
И если кто-нибудь из них заболеет, то они забивают для него шалаш
в стороне от себя и бросают его в нем, и помещают с ним некоторое
количество хлеба и воды, и не приближаются к нему и не говорят с
ним, но посещают его каждые три (?) дня, особенно если он
неимущий или невольник. Если же он выздоровеет и встанет, он
возвращается к ним, а если умрет, то они сжигают его. Если же он
был невольником, они оставляют его в его положении, так что его
съедают собаки и хищные птицы.
И если они поймают вора или
грабителя, то они ведут его к толстому дереву, привязывают ему на
шею крепкую веревку и подвешивают его на нем навсегда, пока он не
распадется на куски от ветров и дождей.
И (еще прежде) говорили, что они делают со своими главарями
при их смерти (такие) дела, из которых самое меньшее (это)
сожжение, так что мне очень хотелось присутствовать при этом,
пока (наконец) не дошло до меня (известие) о смерти одного
выдающегося мужа из их числа. И вот они положили его в его могиле
и покрыли ее крышей над ним на десять дней, пока не закончили
кройки его одежд и их сшивания. А это бывает так, что для бедного
человека из их числа делают маленький корабль, кладут его
(мертвого) в него и сжигают его (корабль), а для богатого
(поступают так): собирают его деньги и делят их на три трети, -
(одна) треть (остается) для его семьи, (одну) треть (употребляют
на то), чтобы для него на нее скроить одежды, и (одну) треть,
чтобы приготовить на нее набид, который они будут пить в день,
когда его девушка убьет сама себя и будет сожжена вместе со своим
господином; а они, всецело предаваясь набиду, пьют его ночью и
днем, (так что) иногда один из них (кто-либо из них) умирает,
держа чашу в своей руке.
И если умирает главарь, то говорит его семья его девушкам и
его отрокам: "Кто из вас умрет вместе с ним?" Говорит кто-либо из
них: "Я". И если он сказал это, то это уже обязательно, так что
ему уже нельзя обратиться вспять. И если бы он захотел этого, то
этого не допустили бы. И большинство из тех, кто поступает (так),
(это) девушки.
И вот, когда умер этот муж, о котором я упомянул
раньше, то сказали его девушкам: "Кто умрет вместе с ним?" И
сказала одна из них: "Я". Итак, поручили ее двум девушкам, чтобы
они оберегали ее и были бы с нею, где бы она ни ходила, до того
даже, что они иногда мыли ей ноги своими руками. И принялись они
(родственники) за его дело, - кройку одежды для него, за
приготовление того, что ему нужно. А девушка каждый день пила и
пела, веселясь, радуясь будущему. Когда же пришел день, в который
будет cожжен (он) и девушка, я прибыл к реке, на которой
(находился) его корабль, - и вот, (вижу, что) он уже вытащен (на
берег) и для него поставлены четыре подпорки из дерева
(материала) хаданга (белого тополя) и другого (дерева), и
поставлено также вокруг него (корабля) нечто вроде больших
помостов (амбаров?) из дерева.
Потом (корабль) был протащен
(дальше), пока не был помещен на эти деревянные сооружения. И они
начали уходить и приходить, и говорили речью, (которой) я не
понимаю. А он (мертвый) был далеко в своей могиле, (так как) они
(еще) не вынимали его. Потом они принесли скамью, и поместили ее
на корабле и покрыли ее стегаными матрацами, и парчой
византийской, и подушками из парчи византийской, и пришла женщина
старуха, которую называют ангел смерти, и разостлала на скамье
постилки, о которых мы упомянули. И она руководит обшиванием его
и приготовлением его, и она убивает девушек. И я увидел, что она
ведьма (?) большая (и толстая), мрачная (суровая).
Когда же они
прибыли к его могиле, они удалили в сторону землю с дерева (с
деревянной покрышки) и удалили в сторону (это) дерево и извлекли
его (мертвого) в изаре, в котором он умер, и вот, я увидел, что
он уже почернел от холода (этой) страны. А они еще прежде
поместили с ним в его могиле набид и (некий) плод и тунбур.
Итак, они вынули все это, и вот он не завонял и не изменилось у
него ничего, кроме его цвета.
Итак, они надели на него шаровары и
гетры, и сапоги, и куртку, и хафтан парчевый с пуговицами из
золота, и надели ему на голову шапку (калансуву) из парчи,
соболевую. И они понесли его, пока не внесли его в ту палатку
(кабину), которая (имеется) на корабле, и посадили его на матрац,
и подперли его подушками и принесли набид, и плод, и благовонное
растение и положили его вместе с ним. И принесли хлеба, и мяса, и
луку, и бросили его перед ним, и принесли собаку, и разрезали ее
на две части, и бросили в корабле. Потом принесли все его оружие
и положили его рядом с ним (букв. к его боку). Потом взяли двух
лошадей и гоняли их обеих, пока они обе не вспотели. Потом (они)
разрезали их обеих мечом и бросили их мясо в корабле, потом
привели двух коров (быков) и разрезали их обеих также и бросили
их обеих в нем (корабле). Потом доставили петуха и курицу, и
убили их, и бросили их обоих в нем (корабле).
А девушка, которая хотела быть убитой, уходя и приходя
входит в одну за другой из юрт, причем с ней соединяется хозяин
(данной) юрты и говорит ей: "Скажи своему господину: «право же, я
сделала это из любви к тебе»". Когда же пришло время после
полудня, в пятницу, привели девушку к чему-то, что они (уже
раньше) сделали наподобие обвязки (больших) ворот, и она
поставила обе свои ноги на руки (ладони) мужей, и она поднялась
над этой обвязкой (обозревая окрестность) и говорила (нечто) на
своем языке, после чего ее спустили, потом подняли ее во второй
(раз), причем она совершила то же (действие), что и в первый раз,
потом ее опустили и подняли в третий раз, причем она совершила то
же, что сделала (те) два раза. Потом подали ей курицу, она же
отрезала ее голову и забросила ее (голову). Они взяли (эту)
курицу и бросили ее в корабле.
Я же спросил у переводчика о том,
что она сделала, а он сказал: "Она сказала в первый раз, когда ее
подняли, - вот я вижу моего отца и мою мать, - и сказала во
второй (раз), - вот все мои умершие родственники сидящие, - и
сказала в третий (раз), - вот я вижу моего господина сидящим в
саду, а сад красив, зелен, и с ним мужи и отроки, и вот он зовет
меня, так ведите же к нему".
И они прошли с ней в направлении к
кораблю. И вот она сняла два браслета, бывших на ней, и дала их
оба той женщине, которая называется ангел смерти, а она та,
которая убивает ее. И она (девушка) сняла два ножных кольца,
бывших на ней, и дала их оба тем двум девушкам, которые обе
(перед этим) служили ей, а они обе дочери женщины, известной под
именем ангела смерти. Потом ее подняли на корабль, но (еще) не
ввели ее в палатку (кабину), и пришли мужи, (неся) с собой щиты и
деревяшки, и подали ей кубком набид, и вот она пела над ним и
выпила его.
Переводчик же сказал мне, что она прощается этим со
своими подругами. Потом дан был ей другой кубок, и она взяла его
и затянула песню, причем старуха побуждала ее к питью его и чтобы
войти в палатку (кабину), в которой (находится) ее господин. И
вот я увидел, что она уже заколебалась и хотела войти в палатку
(кабину), но всунула свою голову между ней и кораблем, старуха же
схватила ее голову и всунула ее (голову) в палатку (кабину) и
вошла вместе с ней (девушкой), а мужи начали ударять деревяшками
по щитам, чтобы не был слышен звук ее крика, причем взволновались
бы другие девушки, и перестали бы искать смерти вместе со своими
господами.
Потом вошли в палатку шесть мужей и совокупились все с
девушкой. Потом положили ее на бок рядом с ее господином и двое
схватили обе ее ноги, двое обе ее руки, и наложила старуха,
называемая ангелом смерти, ей вокруг шеи веревку, расходящуюся в
противоположные стороны, и дала ее двум (мужам), чтобы они оба
тянули ее, и она подошла, держа (в руке) кинжал с широким
лезвием, и вот, начала втыкать его между ее ребрами и вынимать
его, в то время, как оба мужа душили ее веревкой, пока она не
умерла.
Потом подошел ближайший родственник (этого) мертвеца,
взял деревяшку и зажег ее у огня, потом пошел задом, затылком к
кораблю, а лицом своим (...), зажженная деревяшка в одной его
руке, а другая его рука (лежала) на заднем проходе, (он) будучи
голым, пока не зажег сложенного дерева (деревяшек), бывшего под
кораблем. Потом подошли люди с деревяшками (кусками дерева для
подпалки) и дровами, и с каждым (из них) деревяшка (лучина?),
конец которой он перед тем воспламенил, чтобы бросить ее в эти
куски дерева (подпал). И принимается огонь за дрова, потом за
корабль, потом за палатку, и (за) мужа, и (за) девушку, и (за)
все, что в ней (находилось), подул большой, ужасающий ветер, и
усилилось пламя огня, и разгорелось неукротимое воспламенение его
(огня).
И был рядом со мной некий муж из русов, и вот, я услышал,
что он разговаривает с переводчиком, бывшим со мною. Я же спросил
его, о чем он говорил ему, и он сказал: "Право же он говорит:
«Вы, о арабы, глупы»,... Это (?)92; он сказал: «Воистину, вы
берете самого любимого для вас человека и из вас самого
уважаемого вами и бросаете его в прах (землю) и съедают его прах
и гнус и черви, а мы сжигаем его во мгновение ока, так что он
входит в рай немедленно и тотчас»". Тогда я спросил об этом, а он
сказал: "По любви господина его к нему (вот) уже послал он ветер,
так что он унесет его за час".
И вот, действительно, не прошло и
часа, как превратился корабль, и дрова, и девушка, и господин в
золу, потом в (мельчайший) пепел. Потом они построили на месте
этого корабля, который они вытащили из реки, нечто подобное
круглому холму и водрузили в середине его большую деревяшку
хаданга (белого тополя), написали на ней имя (этого) мужа и имя
царя русов и удалились.
Он (Ибн-Фадлан) сказал: к порядкам (обычаям) царя русов
(относится) то, что вместе с ним в его замке (дворце) находятся
четыреста мужей из (числа) богатырей, его сподвижников, и
(находящиеся) у него надежные люди из их (числа) умирают при его
смерти и бывают убиты (сражаясь) за него.
И с каждым из них
девушка, которая служит ему, и моет ему голову, и приготовляет
ему то, что он ест и пьет, и другая девушка, (которую) он
употребляет как наложницу. И эти четыреста (мужей) сидят под его
ложем (престолом). А ложе его огромно и инкрустировано
драгоценными самоцветами. И с ним сидят на этом ложе сорок
девушек для его постели. Иногда он употребляет, как наложницу,
одну из них в присутствии своих сподвижников, о которых мы (выше)
упомянули.
И он не спускается со своего ложа, так что если он
захочет удовлетворить потребность, то он удовлетворяет ее в таз,
а если он захочет поехать верхом, то лошадь его подводится к
ложу, так что он садится на нее верхом с него (ложа). А если он
захочет сойти (с лошади), то подводится его лошадь (к ложу)
настолько, чтобы он сошел со своей лошади. У него есть
заместитель, который управляет войсками и нападает на врагов и
замещает его у его подданных.
“Книга” (или “Записка”) Ахмада ибн-Фадлана является уникальным арабским источником X в. о народах Поволжья и Приуралья. Ибн Фадлан - мусульманский миссионер, побывавший в Волжской Булгарин в 921/922 гг. по просьбе правителя булгар (названного “царем славян”), просившего у халифа ал-Мук- тадира (908-932) помощи в борьбе с Хазарией и обещавшего принять ислам.
“Книга...” является своеобразным отчетом о проведенном посольстве и содержит массу этнографических наблюдений о народах, встреченных путниками по пути к “царю славян” и в самой Волжской Булгарин. В отчете Ибн Фадлана очень много принципиально новой информации, до той поры незнакомой арабо-персидским ученым. Прежде всего это упоминание о западной части Волго- Балтийского пути. Ранее арабы и персы считали, что истоки реки Атиль находятся на востоке от Уральских гор. Миссионер предоставил и весьма подробное описание обычаев племени русов, однако сопоставление этих данных с другими сведениями о русах еще не проведено.
Текст печатается по изд.: Путешествие Ибн Фадлана на Волгу/ Пер. и комм. [А.П. Ковалевского]; под ред. И.Ю. Крачковского. М.-Л., 1939. С.78-84. В этом издании представлен перевод сочинения Ибн-Фадлана по Мешхедской рукописи. Именно по ней известен настоящий труд арабского миссионера, тогда как в других рукописях представлены выписки из него. В отдельных случаях текст
дополнен по: Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956. С. 141-146. Пер. А.П. Ковалевского.
Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на реке АтильЧИ я не видел людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, румяны, красны. Они не носят ни курток, ни хафтанов, lt;но носитgt; какой-либо муж из их числа кису, которой он покрывает один свой бок, причем одна из его рук выходит из нее. С каждым из них имеется секира и меч и нож, и он (никогда) не расстается с тем, о чем мы сейчас упомянули. Мечи их плоские, с бороздками, франкские. И от края ногтей кого-либо их них (русов) до его шеи (имеется) собрание деревьев и изображений и тому подобного. А что касается каждой женщины из их числа, то на груди ее прикреплено кольцо или из железа, или из серебра, или меди, или золота, в соответствии с (денежными) средствами ее мужа и с количеством их. И у каждого кольца - коробочка, у которой нож, также прикрепленный на груди. На шеях у них (женщин) (несколько рядов) монист из золота и серебра, так как, если человек владеет десятью тысячами дирхемов, то он справляет своей жене одно монисто (в один ряд), а если владеет двадцатью тысячами, то справляет ей два мониста, и таким образом каждые десять тысяч, которые у него прибавляются, прибавляются в виде (одного) мониста у его жены, так что на шее какой-нибудь из них бывает много (рядов) монист. Самое лучшее из украшений у них (русов) - это зеленые бусы из той керамики, которая бывает на кораблях. Они (русы) заключают (торговые) контракты относительно них, покупают одну бусину за дирхем и нанизывают, как ожерелья, для своих жен. Они грязнейшие из тварей Аллаха - (они) не очищаются от испражнений, ни от мочи, и не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они как блуждающие ослы. Они пребывают из своей страны и причаливают свои корабли на Атиле, а это большая lt;рекаgt;, и строят на ее берегу большие дома из дерева, и собирается (их) в одном (таком) доме десять и (или) двадцать, - меньше и (или) больше, и у каждого своя скамья, на которой он сидит, и с ними сидят девушки - восторг для купцов...
И как только приезжают их корабли к этой пристани, каждый из них выходит и (несет) с собой хлеб, мясо, лук, молоко и набиз, пока не подойдет к высокой воткнутой деревяшке, у которой (имеется) лицо, похожее на лицо человека, а вокруг нее (деревяшки) маленькие изображения, а позади этих изображений (стоят) высокие деревяшки, воткнутые в землю. Итак, он подходит к большому изображению и поклоняется ему, потом (он) говорит ему: “О, мой господин, я приехал из отдаленной страны и со мною девушек столько-то и столько-то голов и соболей столько-то и столько-то шкур”, пока не сообщит всего, что привез с собою из своих товаров - “и я пришел к тебе с этим даром”; потом (он) оставляет то, что (было) с ним, перед этой деревяшкой, - “и вот, я желаю, чтобы ты пожаловал мне купца с многочисленными динарами и дирхемами, и чтобы (он) купил у меня, как я пожелаю, и не прекословил бы мне в том, что я скажу”. Потом он уходит. И вот, если для него продажа его бывает затруднительна и пребывание его задерживается, то он опять приходит с подарком во второй и третий раз, а если оказывается трудным сделать то, что он хочет, то он несет к каждому изображению из (числа) этих маленьких изображений по подарку и просит их о ходатайстве и говорит: “Это жены нашего господина и дочери его и сыновья его...” Иногда же продажа бывает для него легка, так что он продаст. Тогда он говорит: “Господин мой уже исполнил то, что мне было нужно, и мне следует вознаградить его”. И вот, он берет известное число овец или рогатого скота и убивает их, раздает часть мяса, а оставшееся несет и бросает перед этой большой деревяшкой и маленькими, которые вокруг нее, и вешает головы рогатого скота или овец на эти деревяшки, воткнутые в землю...
И если они поймают вора или грабителя, то они ведут его к толстому дереву, привязывают ему на шею крепкую веревку и подвешивают его на нем навсегда, пока он не распадется на куски от ветров и дождей.
И (еще прежде) говорили, что они делают со своими главарями при их смерти (такие) дела, из которых самое меньшее - сожжение, так что мне очень хотелось присутствовать при этом, пока не дошло до меня (известие) о смерти одного выдающегося мужа из их числа. И вот они положили его в его могиле и покрыли ее крышей над ним на десять дней, пока не закончили кройки его одежд и их сшивания. А это бывает так, что для бедного человека из их числа делают маленький корабль, кладут его (мертвого) в него и сжигают его (корабль), а для богатого (поступают так): собирают его деньги и делят их на три трети - треть для его семьи, треть, чтобы для него на нее скроить одежды, треть, чтобы приготовить на нее набиз, который они будут пить до того дня, когда его девушка убьет сама себя и будет сожжена вместе со своим господином; а они, всецело предаваясь набизу, пьют его ночью и днем, (так что) иногда один из них умирает, держа чашу в своей руке.
И если умирает главарь, то говорит его семья его девушкам и его отрокам: “Кто из вас умрет вместе с ним?” Говорит кто-либо из них: “Я”. И если он сказал это, то это уже обязательно, так что ему уже нельзя обратиться вспять. И если бы он захотел этого, то этого не допустили бы. И большинство из тех, кто поступает (так), - девушки. И вот, когда умер этот муж, о котором я упомянул раньше, то сказали его девушкам: “Кто умрет вместе с ним?” И сказала одна из них: “Я”. Итак, поручили ее двум девушкам, чтобы они оберегали ее и были бы с нею, где бы она не ходила, до того даже, что они иногда мыли ей ноги своими руками. И принялись они (родственники) за его дело - кройку одежды для него, за приготовление того, что ему нужно. А девушка каждый день пила и пела, веселясь, радуясь будущему.
Когда же пришел день, в который будет сожжен (он) и девушка, я прибыл к реке, на которой (находился) его корабль. И вот он уже вытащен (на берег) и для него поставлены четыре подпорки из дерева хаданга и другого (дерева) и поставлено также вокруг него (корабля) нечто вроде больших помостов из дерева. Потом (корабль) был протащен, пока не помещен на эти деревянные сооружения. И они начали уходить и приходить2, и говорили речью, для меня непонятной. А он (мертвый) был в своей могиле, они (еще) не вынимали его.
В середину этого корабля они ставят шалаш из дерева и покрывают этот шалаш разного рода “кумачами”3. Потом они принесли скамью и поместили ее на корабле и покрыли ее стеганными матрацами и парчей византийской и подушками из парчи, и пришла старуха, которую называют ангел смерти1, и разостлала на скамье подстилки, о которых мы упомянули. И она руководит обшиванием его и приготовлением его, и она убивает девушек. И я увидел, что она ведьма большая и мрачная.
Когда же они прибыли к его могиле, они удалили в сторону землю с дерева и удалили в сторону дерево и извлекли его в иза- ре , в которм он умер, и вот я увидел, что он уже почернел от холода (этой) страны. А они еще прежде поместили с ним в его могиле набиз и (некий) плод и тунбур. Итак, они вынули все это, и вот он не завонял и не изменилось у него ничего, кроме его цвета. Итак, они надели на него шаровары и гетры, и сапоги, и куртку, и хафтан парчевый с пуговицами из золота, и надели ему на голову шапку из парчи, соболевую. И они понесли его, пока не внесли его в ту палатку, которая на корабле, и посадили его на матрац, и подперли его подушками, и принесли набиз и плод, и благовонное растение и положили его вместе с ним. И принесли хлеба и мяса и, луку, и оставили это перед ним, и принесли собаку, и разрезали ее на две части, и бросили в корабле. Потом принесли все его оружие и положили его рядом с ним (букв, к его боку). Потом взяли двух лошадей и гоняли их обеих, пока они обе не вспотели. Потом разрезали их обеих мечем и бросили их мясо в корабле, потом привели двух быков и разрезали их также и бросили их обоих в нем (корабле). Потом доставили петуха и курицу, и убили их, и бросили их обоих в нем (корабле).
lt;Собирается много мужчин и женщин, играют на сазах, и каждый из родственников умершего ставит шалаш поотдаль от его шалашаgt;. А девушка, которая хотела быть убитой, уходя и приходя входит в одну за другой из юрт, причем с ней соединяется хозяин данной юрты и говорит ей: “Скажи своему господину: право же, я сделал это из любви к тебе”. Когда же пришло время после полудня, в пятницу, привели девушку к чему-то, что они (уже раньше) сделали наподобие обвязки ворот, и она поставила обе свои ноги на ладони мужей, и она поднялась над этой обвязкой (обозревая окрестность) и говорила (нечто) на своем языке, после чего ее спустили, потом подняли ее во второй раз, причем она совершила то же, что и в первый раз, потом ее опустили и подняли в третий раз, причем она совершила то же, что сделала два раза. Потом подали ей курицу, она же отрезала ее голову и швырнула ее. Они взяли эту курицу и бросили ее в корабле. Я же спросил у переводчика о том, что она сделала, а он сказал: “Она сказала в первый раз, когда ее подняли, - вот я вижу моего отца и мою мать, - и сказала во второй (раз), - вот все мои умершие родственники сидящие, - и сказала в третий (раз), - вот я вижу моего господина сидящим в саду, а сад красив, зелен, и с ним мужи и отроки, и вот он зовет меня, так ведите же к нему”. И они прошли с ней в направлении к кораблю. И вот она сняла два браслета, бывших на ней, и дала их оба той женщине, которая называется ангел смерти, а она та, которая убивает ее. И она (девушка) сняла два ножных кольца, бывших на ней, и дала их оба тем двум девушкам, которые обе (перед этим) служили ей, а они обе дочери женщины, известной под именем ангела смерти.
Потом ее подняли на корабль, но еще не ввели ее в палатку, и пришли мужи, (неся) с собой щиты и деревяшки, и подали ей кубком набиз, и вот она пела над ним и выпила его. Переводчик же сказал мне, что она прощается этим со своими подругами. Потом дан был ей другой кубок, и она взяла его и затянула песню, причем старуха побуждала ее к питью его и чтобы войти в палатку, в которой находится ее господин. И вот я увидел, что она уже заколебалась и хотела войти в палатку, но всунула свою голову между ней и кораблем, старуха же схватила ее голову и всунула ее (голову) в палатку и вошла вместе с ней (девушкой), а мужи начали ударять деревяшками по щитам, чтобы не был слышен звук ее крика, причем взволновались бы другие девушки и перестали бы искать смерти со своими господами. Потом вошли в палатку шесть мужей lt;из (числа) родственников ее мужаgt; и совокупились с девушкой. Потом положили ее на бок рядом с ее господином и двое схватили обе ее ноги, двое обе ее руки, и наложила старуха, называемая ангелом смерти, ей вокруг шеи веревку с расходящимися концами, и дала ее двум (мужам), чтобы они тянули ее, и она подошла, держа (в руке) кинжал с широким лезвием, и вот начала втыкать его между ее ребрами и вынимать его, в то время, как оба мужа душили ее веревкой, пока она не умерла.
Потом подошел ближайший роодственник умершего, взял деревяшку и зажег ее у огня, потом пошел задом, затылком к кораблю, а лицом своим lt;к людямgt;; в одной своей руке он держал зажженную деревяшку, а другую на заднем проходе, будучи голым, пока не зажег сложенных деревяшек, бывших под кораблем. Потом подошли люди с кусками дерева для подпалки и дровами, и с каждым из них lt;была палка, которую он зажегgt;, чтобы бросить ее в эти куски дерева (подпал). И принимается огонь за дрова, потом за корабль, потом за палатку и мужа, и девушку, и все, что в ней находилось, подул большой, ужасающий ветер, и усилилось пламя огня, и разгорелось неукротимое воспламенение его (огня).
И был рядом со мной некий муж из русов, и вот я услышал, что он разговаривает с переводчиком, бывшим со мною. Я же спросил его, о чем он говорил ему, и он сказал: “Право же, он говорит: “Вы, о арабы, глупы”. lt;Я же спросил его об этомgt;. Он сказал: “Воистину, вы берете самого любимого для вас человека и из вас самого уважаемого вами и бросаете его в прах (землю), съедают его прах lt;насекомыеgt; и черви, а мы сжигаем его во мгновение ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас”. Тогда я спросил об этом, а он сказал: “По любви господа его к нему (вот) уже послал он ветер, так что он унесет его за час”. И вот действительно, не прошло и часа, как превратился корабль и дрова, и девушка, и господин в золу, потом в мельчайший пепел. Потом они построили на месте этого корабля, который они вытащили из реки, нечто подобное круглому холму и водрузили в середине его большую деревяшку хаданга, написали на ней имя мужа и имя царя русов и удалились.
Он (Ибн Фадлану) сказал: “К порядкам царя русов (относится) то, что вместе с ним в его замке находятся четыреста мужей из богатырей, его сподвижников, и (находящиеся) у него надежные люди из них умирают при его смерти и бывают убиты (сражаясь) за него. И с каждым из них девушка, которая служит ему и моет ему голову и приготовляет ему то, что он ест и пьет, и другая девушка, которую он употребляет как наложницу. И эти четыреста мужей сидят под его ложем (престолом). А ложе его огромно и инкрустировано драгоценными самоцвета-
ми. И с ним сидят на этом ложе сорок девушек для его постели. Иногда он употребляет как наложницу одну из них в присутствии своих сподвижников, о которых мы упомянули. И он не спускается со своего ложа, так что, если он захочет удовлетворить потребность, то он удовлетворяет ее в таз, а если он захочет поехать верхом, то лошадь его подводится к его ложу, так что он садится на нее верхом с него (ложа). А если он захочет сойти (с лошади), то подводится его лошадь (к ложу) натолько, чтобы он сошел со своей лошади. У него есть заместитель1, который управляет войсками и нападает на врагов и замещает его у его подданных” .
“Книга” (или “Записка”) Ахмада ибн-Фадлана является уникальным арабским источником X в. о народах Поволжья и Приуралья. Ибн Фадлан - мусульманский миссионер, побывавший в Волжской Булгарин в 921/922 гг. по просьбе правителя булгар (названного “царем славян”), просившего у халифа ал-Мук- тадира (908-932) помощи в борьбе с Хазарией и обещавшего принять ислам.
“Книга...” является своеобразным отчетом о проведенном посольстве и содержит массу этнографических наблюдений о народах, встреченных путниками по пути к “царю славян” и в самой Волжской Булгарин. В отчете Ибн Фадлана очень много принципиально новой информации, до той поры незнакомой арабо-персидским ученым. Прежде всего это упоминание о западной части Волго- Балтийского пути. Ранее арабы и персы считали, что истоки реки Атиль находятся на востоке от Уральских гор. Миссионер предоставил и весьма подробное описание обычаев племени русов, однако сопоставление этих данных с другими сведениями о русах еще не проведено.
Текст печатается по изд.: Путешествие Ибн Фадлана на Волгу/ Пер. и комм. [А.П. Ковалевского]; под ред. И.Ю. Крачковского. М.-Л., 1939. С.78-84. В этом издании представлен перевод сочинения Ибн-Фадлана по Мешхедской рукописи. Именно по ней известен настоящий труд арабского миссионера, тогда как в других рукописях представлены выписки из него. В отдельных случаях текст
дополнен по: Ковалевский А.П. Книга Ахмеда Ибн-Фадлана о его путешествии на Волгу в 921-922 гг. Харьков, 1956. С. 141-146. Пер. А.П. Ковалевского.
Я видел русов, когда они прибыли по своим торговым делам и расположились на реке АтильЧИ я не видел людей с более совершенными телами, чем они. Они подобны пальмам, румяны, красны. Они не носят ни курток, ни хафтанов, lt;но носитgt; какой-либо муж из их числа кису, которой он покрывает один свой бок, причем одна из его рук выходит из нее. С каждым из них имеется секира и меч и нож, и он (никогда) не расстается с тем, о чем мы сейчас упомянули. Мечи их плоские, с бороздками, франкские. И от края ногтей кого-либо их них (русов) до его шеи (имеется) собрание деревьев и изображений и тому подобного. А что касается каждой женщины из их числа, то на груди ее прикреплено кольцо или из железа, или из серебра, или меди, или золота, в соответствии с (денежными) средствами ее мужа и с количеством их. И у каждого кольца - коробочка, у которой нож, также прикрепленный на груди. На шеях у них (женщин) (несколько рядов) монист из золота и серебра, так как, если человек владеет десятью тысячами дирхемов, то он справляет своей жене одно монисто (в один ряд), а если владеет двадцатью тысячами, то справляет ей два мониста, и таким образом каждые десять тысяч, которые у него прибавляются, прибавляются в виде (одного) мониста у его жены, так что на шее какой-нибудь из них бывает много (рядов) монист. Самое лучшее из украшений у них (русов) - это зеленые бусы из той керамики, которая бывает на кораблях. Они (русы) заключают (торговые) контракты относительно них, покупают одну бусину за дирхем и нанизывают, как ожерелья, для своих жен. Они грязнейшие из тварей Аллаха - (они) не очищаются от испражнений, ни от мочи, и не омываются от половой нечистоты и не моют своих рук после еды, но они как блуждающие ослы. Они пребывают из своей страны и причаливают свои корабли на Атиле, а это большая lt;рекаgt;, и строят на ее берегу большие дома из дерева, и собирается (их) в одном (таком) доме десять и (или) двадцать, - меньше и (или) больше, и у каждого своя скамья, на которой он сидит, и с ними сидят девушки - восторг для купцов...
И как только приезжают их корабли к этой пристани, каждый из них выходит и (несет) с собой хлеб, мясо, лук, молоко и набиз, пока не подойдет к высокой воткнутой деревяшке, у которой (имеется) лицо, похожее на лицо человека, а вокруг нее (деревяшки) маленькие изображения, а позади этих изображений (стоят) высокие деревяшки, воткнутые в землю. Итак, он подходит к большому изображению и поклоняется ему, потом (он) говорит ему: “О, мой господин, я приехал из отдаленной страны и со мною девушек столько-то и столько-то голов и соболей столько-то и столько-то шкур”, пока не сообщит всего, что привез с собою из своих товаров - “и я пришел к тебе с этим даром”; потом (он) оставляет то, что (было) с ним, перед этой деревяшкой, - “и вот, я желаю, чтобы ты пожаловал мне купца с многочисленными динарами и дирхемами, и чтобы (он) купил у меня, как я пожелаю, и не прекословил бы мне в том, что я скажу”. Потом он уходит. И вот, если для него продажа его бывает затруднительна и пребывание его задерживается, то он опять приходит с подарком во второй и третий раз, а если оказывается трудным сделать то, что он хочет, то он несет к каждому изображению из (числа) этих маленьких изображений по подарку и просит их о ходатайстве и говорит: “Это жены нашего господина и дочери его и сыновья его...” Иногда же продажа бывает для него легка, так что он продаст. Тогда он говорит: “Господин мой уже исполнил то, что мне было нужно, и мне следует вознаградить его”. И вот, он берет известное число овец или рогатого скота и убивает их, раздает часть мяса, а оставшееся несет и бросает перед этой большой деревяшкой и маленькими, которые вокруг нее, и вешает головы рогатого скота или овец на эти деревяшки, воткнутые в землю...
И если они поймают вора или грабителя, то они ведут его к толстому дереву, привязывают ему на шею крепкую веревку и подвешивают его на нем навсегда, пока он не распадется на куски от ветров и дождей.
И (еще прежде) говорили, что они делают со своими главарями при их смерти (такие) дела, из которых самое меньшее - сожжение, так что мне очень хотелось присутствовать при этом, пока не дошло до меня (известие) о смерти одного выдающегося мужа из их числа. И вот они положили его в его могиле и покрыли ее крышей над ним на десять дней, пока не закончили кройки его одежд и их сшивания. А это бывает так, что для бедного человека из их числа делают маленький корабль, кладут его (мертвого) в него и сжигают его (корабль), а для богатого (поступают так): собирают его деньги и делят их на три трети - треть для его семьи, треть, чтобы для него на нее скроить одежды, треть, чтобы приготовить на нее набиз, который они будут пить до того дня, когда его девушка убьет сама себя и будет сожжена вместе со своим господином; а они, всецело предаваясь набизу, пьют его ночью и днем, (так что) иногда один из них умирает, держа чашу в своей руке.
И если умирает главарь, то говорит его семья его девушкам и его отрокам: “Кто из вас умрет вместе с ним?” Говорит кто-либо из них: “Я”. И если он сказал это, то это уже обязательно, так что ему уже нельзя обратиться вспять. И если бы он захотел этого, то этого не допустили бы. И большинство из тех, кто поступает (так), - девушки. И вот, когда умер этот муж, о котором я упомянул раньше, то сказали его девушкам: “Кто умрет вместе с ним?” И сказала одна из них: “Я”. Итак, поручили ее двум девушкам, чтобы они оберегали ее и были бы с нею, где бы она не ходила, до того даже, что они иногда мыли ей ноги своими руками. И принялись они (родственники) за его дело - кройку одежды для него, за приготовление того, что ему нужно. А девушка каждый день пила и пела, веселясь, радуясь будущему.
Когда же пришел день, в который будет сожжен (он) и девушка, я прибыл к реке, на которой (находился) его корабль. И вот он уже вытащен (на берег) и для него поставлены четыре подпорки из дерева хаданга и другого (дерева) и поставлено также вокруг него (корабля) нечто вроде больших помостов из дерева. Потом (корабль) был протащен, пока не помещен на эти деревянные сооружения. И они начали уходить и приходить2, и говорили речью, для меня непонятной. А он (мертвый) был в своей могиле, они (еще) не вынимали его.
В середину этого корабля они ставят шалаш из дерева и покрывают этот шалаш разного рода “кумачами”3. Потом они принесли скамью и поместили ее на корабле и покрыли ее стеганными матрацами и парчей византийской и подушками из парчи, и пришла старуха, которую называют ангел смерти1, и разостлала на скамье подстилки, о которых мы упомянули. И она руководит обшиванием его и приготовлением его, и она убивает девушек. И я увидел, что она ведьма большая и мрачная.
Когда же они прибыли к его могиле, они удалили в сторону землю с дерева и удалили в сторону дерево и извлекли его в иза- ре , в которм он умер, и вот я увидел, что он уже почернел от холода (этой) страны. А они еще прежде поместили с ним в его могиле набиз и (некий) плод и тунбур. Итак, они вынули все это, и вот он не завонял и не изменилось у него ничего, кроме его цвета. Итак, они надели на него шаровары и гетры, и сапоги, и куртку, и хафтан парчевый с пуговицами из золота, и надели ему на голову шапку из парчи, соболевую. И они понесли его, пока не внесли его в ту палатку, которая на корабле, и посадили его на матрац, и подперли его подушками, и принесли набиз и плод, и благовонное растение и положили его вместе с ним. И принесли хлеба и мяса и, луку, и оставили это перед ним, и принесли собаку, и разрезали ее на две части, и бросили в корабле. Потом принесли все его оружие и положили его рядом с ним (букв, к его боку). Потом взяли двух лошадей и гоняли их обеих, пока они обе не вспотели. Потом разрезали их обеих мечем и бросили их мясо в корабле, потом привели двух быков и разрезали их также и бросили их обоих в нем (корабле). Потом доставили петуха и курицу, и убили их, и бросили их обоих в нем (корабле).
lt;Собирается много мужчин и женщин, играют на сазах, и каждый из родственников умершего ставит шалаш поотдаль от его шалашаgt;. А девушка, которая хотела быть убитой, уходя и приходя входит в одну за другой из юрт, причем с ней соединяется хозяин данной юрты и говорит ей: “Скажи своему господину: право же, я сделал это из любви к тебе”. Когда же пришло время после полудня, в пятницу, привели девушку к чему-то, что они (уже раньше) сделали наподобие обвязки ворот, и она поставила обе свои ноги на ладони мужей, и она поднялась над этой обвязкой (обозревая окрестность) и говорила (нечто) на своем языке, после чего ее спустили, потом подняли ее во второй раз, причем она совершила то же, что и в первый раз, потом ее опустили и подняли в третий раз, причем она совершила то же, что сделала два раза. Потом подали ей курицу, она же отрезала ее голову и швырнула ее. Они взяли эту курицу и бросили ее в корабле. Я же спросил у переводчика о том, что она сделала, а он сказал: “Она сказала в первый раз, когда ее подняли, - вот я вижу моего отца и мою мать, - и сказала во второй (раз), - вот все мои умершие родственники сидящие, - и сказала в третий (раз), - вот я вижу моего господина сидящим в саду, а сад красив, зелен, и с ним мужи и отроки, и вот он зовет меня, так ведите же к нему”. И они прошли с ней в направлении к кораблю. И вот она сняла два браслета, бывших на ней, и дала их оба той женщине, которая называется ангел смерти, а она та, которая убивает ее. И она (девушка) сняла два ножных кольца, бывших на ней, и дала их оба тем двум девушкам, которые обе (перед этим) служили ей, а они обе дочери женщины, известной под именем ангела смерти.
Потом ее подняли на корабль, но еще не ввели ее в палатку, и пришли мужи, (неся) с собой щиты и деревяшки, и подали ей кубком набиз, и вот она пела над ним и выпила его. Переводчик же сказал мне, что она прощается этим со своими подругами. Потом дан был ей другой кубок, и она взяла его и затянула песню, причем старуха побуждала ее к питью его и чтобы войти в палатку, в которой находится ее господин. И вот я увидел, что она уже заколебалась и хотела войти в палатку, но всунула свою голову между ней и кораблем, старуха же схватила ее голову и всунула ее (голову) в палатку и вошла вместе с ней (девушкой), а мужи начали ударять деревяшками по щитам, чтобы не был слышен звук ее крика, причем взволновались бы другие девушки и перестали бы искать смерти со своими господами. Потом вошли в палатку шесть мужей lt;из (числа) родственников ее мужаgt; и совокупились с девушкой. Потом положили ее на бок рядом с ее господином и двое схватили обе ее ноги, двое обе ее руки, и наложила старуха, называемая ангелом смерти, ей вокруг шеи веревку с расходящимися концами, и дала ее двум (мужам), чтобы они тянули ее, и она подошла, держа (в руке) кинжал с широким лезвием, и вот начала втыкать его между ее ребрами и вынимать его, в то время, как оба мужа душили ее веревкой, пока она не умерла.
Потом подошел ближайший роодственник умершего, взял деревяшку и зажег ее у огня, потом пошел задом, затылком к кораблю, а лицом своим lt;к людямgt;; в одной своей руке он держал зажженную деревяшку, а другую на заднем проходе, будучи голым, пока не зажег сложенных деревяшек, бывших под кораблем. Потом подошли люди с кусками дерева для подпалки и дровами, и с каждым из них lt;была палка, которую он зажегgt;, чтобы бросить ее в эти куски дерева (подпал). И принимается огонь за дрова, потом за корабль, потом за палатку и мужа, и девушку, и все, что в ней находилось, подул большой, ужасающий ветер, и усилилось пламя огня, и разгорелось неукротимое воспламенение его (огня).
И был рядом со мной некий муж из русов, и вот я услышал, что он разговаривает с переводчиком, бывшим со мною. Я же спросил его, о чем он говорил ему, и он сказал: “Право же, он говорит: “Вы, о арабы, глупы”. lt;Я же спросил его об этомgt;. Он сказал: “Воистину, вы берете самого любимого для вас человека и из вас самого уважаемого вами и бросаете его в прах (землю), съедают его прах lt;насекомыеgt; и черви, а мы сжигаем его во мгновение ока, так что он входит в рай немедленно и тотчас”. Тогда я спросил об этом, а он сказал: “По любви господа его к нему (вот) уже послал он ветер, так что он унесет его за час”. И вот действительно, не прошло и часа, как превратился корабль и дрова, и девушка, и господин в золу, потом в мельчайший пепел. Потом они построили на месте этого корабля, который они вытащили из реки, нечто подобное круглому холму и водрузили в середине его большую деревяшку хаданга, написали на ней имя мужа и имя царя русов и удалились.
Он (Ибн Фадлану) сказал: “К порядкам царя русов (относится) то, что вместе с ним в его замке находятся четыреста мужей из богатырей, его сподвижников, и (находящиеся) у него надежные люди из них умирают при его смерти и бывают убиты (сражаясь) за него. И с каждым из них девушка, которая служит ему и моет ему голову и приготовляет ему то, что он ест и пьет, и другая девушка, которую он употребляет как наложницу. И эти четыреста мужей сидят под его ложем (престолом). А ложе его огромно и инкрустировано драгоценными самоцвета-
ми. И с ним сидят на этом ложе сорок девушек для его постели. Иногда он употребляет как наложницу одну из них в присутствии своих сподвижников, о которых мы упомянули. И он не спускается со своего ложа, так что, если он захочет удовлетворить потребность, то он удовлетворяет ее в таз, а если он захочет поехать верхом, то лошадь его подводится к его ложу, так что он садится на нее верхом с него (ложа). А если он захочет сойти (с лошади), то подводится его лошадь (к ложу) натолько, чтобы он сошел со своей лошади. У него есть заместитель1, который управляет войсками и нападает на врагов и замещает его у его подданных” .
Давайте все-таки разберемся с Ибн-Фадланом
Введение
Наконец у меня есть полный русский текст «Записок» Ибн-Фадлана, не то посла, не то купца, не то просто авантюриста якобы «из Города Мира (Багдада)», хотя его «Записки» были широко распространены в восточном Иране», сиречь в нынешнем Афганистане, тогда как в самом Багдаде об этих «Записках» отродясь не слышали. Только надо не забывать, что по тем меркам расстояний от Афганистана до Сирии было примерно как ныне от Австралии до Гренландии. И вообще, по моему мнению, никакого Ибн-Фадлана в 921-922 годах в природе не было. Зато был уже в 13 веке «географ» Йакут, каковой, во-первых, просто якут, как побывавший в Якутии (Якутия тогда была от Урала до Тихого океана) выше 60-й параллели и, во-вторых, именно с его «географии» скомпилирован Ибн-Фадлан и отправлен в 10 век. Может быть, даже в Академии наук СССР «в переводе» А.П. Ковалевского и «под редакцией» И.Ю. Крачковского. Так как ««Записки» Ахмеда Ибн-Фадлана – чрезвычайно важный источник по истории Восточной Европы X века», тем более что его путешествие выдается как «на Волгу», хотя оно и было на Южный Урал. И, по-моему, еще дальше, в нынешний Ханты-Мансийск, который в то время назывался Самарой, каковых на Земле – не меньше десятка. Если не больше.
Якут – «Йакут»
Из предисловия к изданию упомянутых публикаторов: «Сам Йакут включил несколько фрагментов из Ибн-Фадлана в свой «Географический словарь», дошедший в нескольких списках. Единственный известный список «Записки» Ибн-Фадлана был обнаружен востоковедом А.З.В. Тоганом (А.З. Валидовым) в 1920-х годах в библиотеке при гробнице имама Али ибн-Риза в Мешхеде (Иран). К сожалению, конец рукописи отсутствует, причем неизвестно, скольких листов не хватает . В 1937 г. фотокопия Мешхедской рукописи была передана в дар Академии наук СССР от правительства Ирана, и на ее основе А.П.Ковалевским было подготовлено издание на русском языке. В 1956 г. им же было подготовлено существенно переработанное и дополненное издание, но наша электронная публикация основана на издании 1939 г .
Выделенные слова, а также тот факт, что фотографическая «рукопись» публикуется в якобы «не переработанном» виде показывает, что доверять этой публикации надо с большой осторожностью. Во всяком случае, подумать о том, что в древности рукопись Ибн-Фадлана была «широко известна», но от нее остались только рожки да ножки, а вот не «широко известный» даже в 13 веке «Географический словарь» Якута, напротив, вдруг «дошел до нас в нескольких списках». Но в них всего лишь «несколько фрагментов» из Ибн-Фадлана.
Название «рукописи», «просьба царя славян о постройке крепости» и
«преподании ему законов ислама»
У автора она называется «Книга Ахмада Ибн-Фадлана…, посла Аль-Муктадира к царю славян», то есть «…к царю рабов», (см. мои работы). Нам ее представляют публикаторы как «Путешествие… на Волгу», то есть Волга тут высосана из пальца. Так же следует отнестись к перечислению того, что Ибн-Фадлан «сам видел турок, хазар, руссов, славян, башкир и др.».
Далее. Фадлан поехал по «письму царя славян…, в котором он просит о присылке тех людей, кто научил бы его вере, построил мечеть…, и просит о постройке крепости, чтобы он укрепился в ней от царей, своих противников». Как известно, ни один царь любых славян никогда не просил об исламе, напротив все цари славян начали с православного христианства, так как в исламе нельзя водку пить, а на Руси согласно Владимиру Красное Солнышко «Руси любят питии».
Другими словами, уже сейчас видно, что письмо пришло не «от царя славян», так как славяне до Грозного нашего царя никогда раньше ниже Нижнего Новгорода по Волге не ходили. И вообще, славян интерпретаторы «рукописи» производят из имени «Барис ас-Саклаби (славянин)». А из него можно произвести даже грузинскую саклю. Не говоря уже о том, что так называли нас исключительно с запада, а не с востока.
География начала пути Фадлана
«И выехали мы из Города мира («переводчики» добавляют – Багдада), мы остановились в ан-Нихраване, в ад-Даскары (заметьте, Йакут указывает под этим именем одно село на запад от Багдада ). То есть, Фадлан поехал в другую сторону от цели путешествия! Может, поэтому все рукописи Фадлана потерялись?
Далее следует штук 8 деревень, каковые не отождествить на современной карте, но вот что выдает вранье: между деревнями 1-3 дня пути и посольство больше тратит времени на отдых в этих деревнях, чем на путь между ними. То есть, от Багдада, если бы они из него выехали на верблюдах, они за это время не смогли бы отъехать и сотни километров.
И вдруг: «пересекли пустыню до Амуля, потом переправились через Джайхун (а Джайхун, если вам неизвестно, это – Амударья) и въехали в Бухару», значит, в самых верховьях этой реки. <…> И оставались мы в Бухаре двадцать восемь дней», то есть дольше, чем затратили дней на весь путь от Багдада до Бухары.
А теперь взгляните на карту. Даже по нынешней скоростной автотрассе, даже на гоночном «Феррари» от Багдада до Бухары не доехать в столь краткое время, если надо еще не просто проехать по мосту через Амударью (Джайхун), а «переправиться», ибо моста нет. А на этом, примерно 2500-километровом прямом как стрела пути, тоже ведь мостов ни одного нет, а рек и речек – не счесть. Не из Багдада поехал Ибн-Фадлан.
Тогда, откуда же он выехал?
Прочитайте выше, насчет пустыни перед «переправой», а потом взгляните на более или менее крупномасштабную физическую карту Узбекистана и Афганистана, прихватив кусочек восточного Пакистана. Я уж не буду ее приводить, вы же все учили в школе географию.
Во-первых, вы и сегодня увидите путь от Кандагара до Кушки вдоль подножья гор. Другой путь, ни выше, ни ниже не проложить: с одной стороны горы, с другой – пуштунская пустыня. Во-вторых, на полпути от Кандагара к указанной дороге примыкает единственный путь из Ирана, а, значит, и из Багдада. В-третьих, но из Багдада, коль скоро Фадлан направился на Волгу, не надо ехать в верховья Амударьи, на Волгу надо ехать или плыть по любому меридиональному берегу Каспия. Но Фадлан приехал в пустыню, чтоб переплыть Амударью и оказаться в Бухаре. Значит, стопроцентно второй раз подтверждаю: Фадлан не ехал из Багдада. Откуда тогда ехал?
Кандагар и в древности и сейчас – нечто, вроде блок-поста на единственной дороге, так как самостоятельного значения не имеет, ни производственного, ни по полезным ископаемым, тут удобно только всех останавливать и брать с них дань. Путь же идет из долины Инда, где, во-первых, куча полезных ископаемых, особенно серебра, во-вторых – это самый древний форпост торгового племени в Индостане, (см. мои другие работы). Именно с долины, в основном верховьев Инда началось освоение торговым племенем всей Юго-Восточной Азии. Именно здесь – санскрит и прочие штучки древних Ариев-арийцев. Сам же путь из долины Инда через Кандагар, Кушку, Мары – в Бухару только средство связи и не более того. И вся культура на этом пути лишь следствие этого пути, а сама культура выросла в долине Инда, а потом уже переправилась в Бухару. Поэтому Ибн-Фадлан держал путь откуда-то из долины Инда. Но и в Персии имелась культура, только она несколько другого плана, так как произошла тоже от торгового племени, только от другого его «колена». Так что в Бухаре эти две культуры усреднились и двинулись на Тихий океан, в Китай, Корею и Японию. Но большая часть ирано-иракской культуры пошли по берегам Каспия на Волгу и Яик и вместе с баскунчакской солью тоже отправились на Тихий океан. Только зимой – через Бухару, а летом – через Северный Казахстан, (см. мои другие работы).
Мне посчастливилось два месяца прожить в пустыне, через которую Ибн-Фадлан достиг переправы через Амударью, чтобы попасть в Бухару. Но лучше бы этого «счастья» не было, так как я, прибыв из Сибири в самый разгар лета, в начале августа, чуть там не изжарился живьем. При 45 в тени. Меня туда послала Родина, чтоб я там подучился в дополнение к горному делу командованию танковым взводом. А броня танка, кстати, нагревалась до 70 градусов, а мы в нем сидели. Фадлану, конечно, было легче, он южанин, а я – сибиряк и даже уснуть не мог, не намочив простыню под краном и завернувшись в нее.
Так вот, достигнув точки, где довольно полноводная река Мургаб прямо-таки проваливается в песок, надо свернуть направо, переправиться через Амударью и еще столько же проехать на верблюдах и ты – в Бухаре. Только никакой дурак не поедет с Инда в Бухару, чтоб потом добраться до Южного Урала. Не говоря уже о Волге. Что он там делать будет? Это примерно как москвичи в отпуске собрались бы сходить пешком во Владивосток. Причем не вдоль железной и обычной дороги, а сбоку от нее, по тайге. Причем имея за душой не рубли в кошельке, а кредитную карточку «Эмерикен экспресс». Причем на всем 10-тысячекилометровом пути ни один встречный не знает, что это такое – кредитная карточка?
Торговая эстафета
Она у меня описана в другой работе, здесь же кратко сообщу, что ни один дурак, накопав золота в Магадане, не повезет свою добычу на собаках сквозь таежные дебри прямо на московский базар. Или тот же старатель с озера Баскунчак соль – в Корею. Во-первых, он не знает пути и никогда не сможет его узнать, так как погибнет на первой же сотне километров от злого умысла местных жителей, зверя, или провалившись в болото, сверзившись в пропасть, или просто от голода, кружа около какой-нибудь горы. Во-вторых, где торговый путь, там и – разбойники, обшарят до трусов на первых же 30 километрах, а если бог пронесет на первый раз, то ведь разбойники живут через каждые 30 километров, а до Тихого океана – аж страшно считать. Поэтому торговля – эстафетная изначально. Не огурцами, разумеется, а экзотикой: чаем в Ханты-Мансийске, ханты-мансийскими мехами – в Индии. При каждой передаче товара по эстафете цена его возрастает. Но самое главное в том, что свой отрезок пути эстафетный торговец знает наизусть, в том числе, как избежать встречу с разбойниками. Или же – как поладить с ними. Или как защититься.
Исходя из этого, географ-любитель может, конечно, пристраиваясь к караванам, проследовать с ними 3-5 этапов, тщательно замаскировавшись на каждом этапе под индивида, присущего данному этапу, например, вымазавшись сажей, если следует с эфиопами, чтобы разбойники и местные жители его не вычислили, иначе спросят: а ты что здесь делаешь?
Это я к тому говорю, что Фадлан не торговец и не географ, он – посол, а послы без денег не ездят. Но надо знать, что разбойникам плевать, что у посла охранная грамота из Багдада, он ведь грабит невдалеке от Тихого океана. Поэтому послы в те поры ездили примерно как армия, идущая в поход на другую страну. А уж исходя из этого, послов надо вообще вычеркнуть из тогдашней истории, если они не едут из соседнего села, где всех возможных послов знают в лицо. И еще не надо забывать про менталитет. История Фадлана написана не ранее того, как был придуман дилижанс. Или русская ямщицкая тройка. Но это 19 век, в каждом городе – полиция и все подчиняются королю или царю. А тогда менталитет не распространялся дальше 30 километров, и на каждом таком этапе эстафеты – вполне могли поджарить и съесть. Только торговое племя умело противостоять таким невзгодам. Поэтому я и говорю, что история Ибн-Фадлана скомпилирована уже после того, как был придуман дилижанс. И авторы компиляции даже не могли себе представить путешествие без дилижанса. Поэтому их так смешно читать, если вспомнить о менталитете.
Цель
Цель – совершенно сказочная. Например, какое-нибудь племя из дебрей Амазонки написало и передало каким-то сверхъестественным способом письмо турецкому султану, чтобы тот построил им город с крепостными стенами, как будто племени откуда-то известно, как о городах, так и о крепостных стенах. Ведь этого невозможно представить, точно так же, как представить у этого племени холодильники в каждом шалаше, питающиеся электричеством от ближайшего дерева посредством лиан. И, представьте, султан посылает Ибн-Фадлана, наперед зная, что ему на Амазонку никогда не добраться, так как никому в султанате вообще неизвестно, где эта Амазонка находится.
Другими словами, так как написано это путешествие, оно – невозможно. Допущение, что Ибн-Фадлан – самостийный географ, мы тоже отмели как нереальное. Значит, «Записки…» – роман, каковые пишутся из опыта собственного наблюдения за окружающей жизнью, по тем временам на расстоянии не далее тридцати километров, либо – из перелопачивания ранее написанного, а по тем временам – из рассказанного очевидцами, притом – через вторые–десятые руки, примерно как анекдоты.
Единственным источником этих рассказов могут быть только торговцы, притом торговцы данного участка (этапа) торговой эстафеты, переданные через соседние этапы с добавлением на каждом этапе собственных умозрений наподобие детской игры в испорченный телефон.
По роману Л. Толстого «Война и мир», конечно, можно изучать историю Наполеоновских войн, если представить себе, что ни одной другой бумажки об этих временах не сохранилось. Именно так надо изучать историю по роману Ибн-Фадлана. А теперь я остановлюсь только на тех фактах из романа, которые дают пищу уму, но не сердцу.
Непереварившиеся семена в куче навоза, которые курочка склевала
1. «Я видел дирхемы Бухары разных сортов, они состоят из меди, красной меди и желтой меди, из которых берется количество без веса. Сто из них равны дирхему из серебра». Во-первых, Бухара в то время – окраина еврейского мира, так как там еще не научились точно дозировать в монетах медь разных месторождений. Во-вторых, обогащение меди – грубое, примерно как в Японии, где в японской меди содержалось даже в 1850-х годах очень много золота и западноевропейцы скупали его по цене меди, а потом более высокими технологиями отделяли. В-третьих, в Центральной (Средней) Азии медь стоила в 100 раз дешевле серебра, загляните на сегодняшнюю биржу.
2. «…они не упоминают других дирхемов». Значит, часть торгового племени в данном ареале «окуклилась», (см. статью «Окукливание»), торговый путь еле намечен, нерегулярен, то есть не как нынешняя Транссибирская магистраль. Поэтому торговое племя стало внешне здорово походить на аборигенов, в историки их позже назовут «тюрками» с многочисленными их каганатами.
3. «…мы выехали из Бухары, возвращаясь к реке, и наняли корабль до Хорезма. … мы ехали несколько дней». Вот поэтому-то я и говорю, что основной способ освоения новых земель – реки. Попробовали бы этот же путь проехать на верблюдах рядом с Амударьей.
4. «…между вами и этой страной, о которой вы говорите, – тысяча племен неверных» . Это сказано Ибн-Фадлану, собравшемуся на Южный Урал, в Хорезме. Значит, здесь не было никаких тюркских каганатов, каковых историки насчитали до десятка, глядя в потолок. Они врут наподобие романиста Ибн-Фадлана насчет бороды, о которой – ниже.
5. «Итак, мы спустились из Хорезма в аль-Джурджанию. Я видел хорезмские дирхемы обрезанные и свинцовые и неполновесные…, их менялы продают игральные кости, чернильницы и дирхемы». <…> Но только Аллах… сделал дрова дешевыми для них». Итак, наш романист – на берегу Арала зимует четыре месяца (раджаб, шабан, рамадан, шавваль), греясь почти дармовыми дровами, что соответствует нынешней природе – устье Амударьи около четырех месяцев во льду. Но главное не в этом, а в «обрезанных» дирхемах, каковые стали рублями – рубленными на две-три части дирхемами. Но надо учесть и инфляцию, так как дирхем напополам – полтина, на три части – алтын, каковые стали после очередного «упорядочения масштаба цен» пол-рублем и тремя копейками. Примерно как майор – старше лейтенанта, а вот генерал-майор младше генерал-лейтенанта. Но и это еще не все.
Рубли – рубленные динары, конечно, попали на Русь Московскую по Волге, только не из Хорезма. Ибо оттуда, где сейчас зимует Ибн-Фадлан, нет пути на Волгу, отсюда есть путь только на Урал, хотя и не самый хороший, лучший путь на Урал – по Иртышу и Тоболу. Поэтому рубли могли попасть на «святую» Русь в абсолютно равной вероятности либо с Кавказа, либо с Уральских гор, из Великой Перми. В дальнейшем я буду тщательно следить за тем, как Ибн-Фадлан у русских историков попадет на Волгу. А пока – о бороде, к которой все никак не могу подойти.
6 . Ибн-Фадлан «посмотрел на свою бороду, она один сплошной кусок из снега, пока я не приблизил ее к огню». Я родился в Сибири, поэтому утверждаю, что Ибн-Фадлан никогда не был в местах, где борода индевеет. Он, как говорится, слышал звон, но не знает – где он. И это очень важное доказательство, что я рассматриваю роман, а не отчет о реальном путешествии. И даже для времен упомянутого выше Йакута (13 век) это – роман. Значит, о 10 веке можно вообще забыть. Тем более, что Ибн-Фадлан пишет: «я видел землю, которая растрескалась и в ней (образовались) большие овраги от силы холода, и что огромное древнее дерево действительно раскололось на две половины от этого». Заметьте, что это – на устье Амударьи.
7. «…река Джайхун растаяла, и мы принялись за необходимые принадлежности для путешествия. Мы купили турецких верблюдов и велели сделать дорожные мешки из верблюжьих кож для переправы через реки, через которые нам нужно будет переправляться в стране турок». Идет май, поэтому от покупки верблюдов до поделки из них бурдюков потребовалось бы все лето. Тогда нечего было сидеть всю зиму на Арале и ждать весны для начала не то что путешествия, а всего лишь – подготовки к нему. А если местные жители все же плавали по Аралу, что сверхсомнительно, так как незачем, то не надо говорить и о покупке верблюдов. Из чего вытекает («велели сделать»), что местные жители понятия не имели о бурдюках. И «делать» они их будут примерно как сито, на котором далеко не уплывешь, ибо выделка шкуры для бурдюка в воде – дело хитрое, непростое. Неужто с собою в поход специалиста взяли? Так лучше бы взяли готовые бурдюки.
8. «Итак, на каждом человеке из нас была куртка, поверх нее кафтан, поверх него шуба, поверх нее войлочная шапка и бурнус, из которого видны были только два его глаза, и шаровары ординарные и другие двойные (с подкладкой), и гетры, и сапоги из кимухта и поверх сапог другие сапоги, так что каждый из нас, когда ехал верхом на верблюде, не мог двигаться от одежд…».
Во-первых, это – в середине лета (бурдюки задержали), притом на устье Амударьи, ибо караван только двинулся из неудобопроизносимой и ни о чем не говорящей аль-Джурджании вблизи Хорезма. Во-вторых, если это северный наряд, то северные народы отродясь «войлочных шапок» не носили, чтоб только «одни глаза» снаружи были. В-третьих, северная одежда легка и удобна даже при минус 60-ти. То есть, романист-фантаст Ибн-Фадлан представляет себе, как бы он оделся, если бы было холоднее, нежели на экваторе в январе. Значит, не был он в Хорезме и в июне.
9. «…мы наняли проводника… из жителей аль-Джурджании », через два дня: «нас настиг снег, так что верблюды ступали в нем по колена . Мы остановились на два дня и устремились в страну турок, и никто нам не встретился в пустынной степи без единой горы. Мы ехали десять дней…, и нам встретился сильный холод и последовательное выпадение снегов, при котором холод Хорезма был подобен дням лета».
Во-первых, за десять дней по степи на верблюдах далеко не уедешь. Я не уверен даже, что они достигли северной оконечности Арала. И откуда в июле тут взялся снегопад «верблюдам по колено»? Я ведь уже вам сказал, что ледостав на Амударье продолжался во времена Ибн-Фадлана ровно столько же, сколько и сейчас. И зачем тогда Ибн-Фадлану понадобился такой гротеск, чтоб, отъехав к северу не более 200 километров в самый разгар лета, когда даже в Ханты-Мансийске под 30-ть тепла, восклицать, будто он попал в Антарктиду в июле, когда там зима под минус 70-т. Во-вторых, «нанять проводника» можно было не более, чем на все те же 200 километров, учитывая, что проводник – кочевник и знает ближайшую степь как свои пять пальцев, а дальше и для него – terra incognita . В-третьих, но он же на этом не остановился, он нагнетает: «мы были близки к гибели наших душ ».
10. «…мы едем каждую ночь от полуночи до времени после полудня». При таком гренландском холоде в июле, о котором нам только что сообщил автор, это не самое лучшее время «дневного» перехода. Это время – наихудшее. А вот для дневной жары, стопроцентно имевшейся у него в наличии, – разумно. Хотя у меня есть еще одна причина в запасе, но я о ней пока умолчу.
11. Когда мы проехали пятнадцать дней, мы достигли большой горы, на которой источники. Мы пересекли их и прибыли к племени турок, известных под именем аль-Гуззия. И вот они кочевники, у них дома волосяные. Ты видишь их дома то в одном месте, то такие же в другом; они не изъявляют покорности Аллаху, но называют своих наибольших старцев господами. И управляет ими совет между ними».
Во-первых, не нужно ехать 10 + 2 + 15 дней на север, чтоб увидеть «волосяные дома», их и из Хорезма было видно. Хотя месяца и хватило бы, чтоб попасть к «большой горе» Мугоджары, «на которой источники». Но до Урала на верблюдах по бездорожью за этот срок никак не добраться.
Во-вторых, эти самые «турки» даже ныне не «изъявляют покорности Аллаху» , у них ведь поныне – ламаизм, к которому здорово подходит и «совет наибольших старцев», геронтократия называется. Отсюда я, не будь на свете историков, сделал бы вывод, что ламаизм немного древнее ислама, так как он сюда уже добрался, а ислам – все еще нет. Притом добрался ламаизм сюда оттуда же, откуда фактически прибыл Ибн-Фадлан (см. выше).
В-третьих, геронтократия присуща всем народам, куда еще не попала религия единого бога, что в Австралии, что в Тибете, что на Северном Кавказе, где религия поныне не столь крепка как геронтократия.
Где-то около Мугоджар, на полпути до Урала, продвижение Ибн-Фадлана остановилось и пошло описание практически никчемных характеристик «турок» (тюрок же, но Ибн-Фадлан не знал, что историки так назовут позднее многочисленные народы и каганаты), каковые я опускаю. Главное, что в районе Мугоджар случилась первая встреча. И сразу же – вторая.
12. Первый из их царей – Кударкин. Он прежде уже принял ислам, но сограждане ему сказали: "Если ты принял ислам, то ты уже не наш глава". Тогда он отказался от ислама. Нам он сказал: "Я не допущу, чтобы вы прошли… мы поддобрились к нему кафтаном, куском материи, лепешками хлеба, пригоршней изюма и сотней орехов. На следующий день нас встретил один человек из турок Он сказал: "Остановитесь", и караван остановился, то есть около трех тысяч лошадей и пяти тысяч человек . Потом он сказал: "Ни один из вас не пройдет!" Мы сказали ему: "Мы друзья Кударкина". Он начал смеяться: "Кто такой Кударкин? Я испражняюсь на бороду Кударкина". Тогда я вручил ему лепешки хлеба. Он взял их и сказал: "Проезжайте, я смилостивился" (выделено мной).
Мне эти встречи здорово напоминают сказку об Аладдине и волшебной лампе. И – об Иване-дураке и Емеле-дураке одновременно. Начну с того, что несколько верблюдов, две недели назад «стоявшие по колено в снегу», превратились в «три тысячи лошадей», а небольшое «посольство», которое всех боялось и всех «задабривало», начиная с Бухары, превратилось в армию даже по современным меркам – большую. Каковую надо кормить и не за деньги, разумеется, так как деньги в этих краях практически не ходят, а те, что имеются в единичных экземплярах, разрубаются на две-три части, примерно как крайняя плоть Иисуса Христа для показа в наибольшем количестве «храмов». Ибо даже царю Кударкину не денег подарили, а товары. Другими словами, здесь вставка в труд Ибн-Фадлана, ибо сам он не настолько сумасшедший, чтоб последовательно писать эту чушь.
С одной стороны, такая армия имеет место, когда торговцы решили построить за горизонтом новую Самару. Тогда им не страшны никакие местные власти. Но только перед этим туда должны сходить разведчики типа малочисленного «посольства» Фадлана. И объединять «посольство» с «армией» – глупее не придумаешь.
С другой стороны, от «посольства» до «армии» (кстати, поразмышляйте насчет «ар-ми», «Би-ар-ми», «сам-ар», а то у меня и без того половина работ состоит из языкознания) – большая временная дистанция. «Посольство» потому и взято у меня в кавычки, что оно есть наиболее приспособленные к первоначальному завязыванию знакомства торговцы. У которых на первом месте – знакомство, а на втором – торговля, то есть знакомство для последующей торговли. С все новыми и новыми «посольствами» центр тяжести постепенно переносится на саму торговлю, товарооборот растет и приходит время начинать строить там, «за горизонтом», новый город, Самару разумеется, так как это слово прямо означает «горизонт». Вот тогда-то идет уже «армия», не завоевательная, разумеется, а строительная, каковая и защитить себя сможет в случае необходимости. Именно так основаны все города на Земле, не исключая великие русские реки.
Во многих своих работах я доказал что, как только «посольства» развивают на данном отрезке пространства торговый путь, на нем тут же появляются казаки-разбойники во главе с представителями торгового племени, подвергнутыми единоплеменниками процедуре «арири» или «карет». (См. мои другие работы, например, «Алджама и другое», «Третий главный вывод из моих работ: Тайна о «Тайнах…» с нежданным выводом-3»). Поэтому я сделал следующий вывод из этих двух встреч, имея в виду «три тысячи лошадей и пять тысяч людей» у Ибн-Фадлана, описания им турка Кударкина и «одного человека из турок», а также явную неприязнь Фадлана к последнему. И, кроме того, – метод «поддобрения», проявленный Фадланом к тому и другому, и крайнюю скупость на слова Фадлана при этом описании.
Ибн-Фадлан, как и положено «разведчику», в первую очередь завязал отношения с главой геронтократии данного региона, надеясь на его покровительство и склоняя его к исламу. У главы геронтократии, естественно, разбежались глаза, но последовал окрик сограждан. Причем «покровительство» не представляло собой силу, а просто – устное рекомендательное письмо к согражданам, что равно силе, так как «чудь не знала оружия», а геронтократию уважала беспредельно. Эта договоренность действовала длительное время, пока организовывался торговый путь, и по нему прошло несколько десятков таких «послов» как Ибн-Фадлан. Только последующие правщики «записок» выкинули этот процесс и соединили с процессом «одного человека из турок», произошедшим примерно через несколько лет, а может быть, и десятков лет, в единую последовательность «на следующий день». Об этом говорит хотя бы тот факт, что не могли противники Кударкин и «один человек» жить бок о бок, не далее полдня пути друг от друга, что для кочевников равносильно как для нас – соседство по лестничной площадке. Притом надо не забывать, что этот «один человек» остановил «около трех тысяч лошадей и пяти тысяч человек» Ибн-Фадлана, каковые за десяток дней получились из нескольких человек и верблюдов. То есть, во второй встрече «на следующий день» был уже не Ибн-Фадлан, а его далекий правнук. А вот то, что пообещал сделать «один человек» с бородой Кударкина, показывает, что это уже были казаки-разбойники на торговом пути. Недаром я упустил из цитаты подробности яростной, скрытой, но тайной, ненависти, доходящей до оскорблений и унижений, пра-пра-правнука Ибн-Фадлана к этому «одному человеку», находясь при «трех тысячах лошадей и пяти тысячах человек». А вот имени его не назвал потому, я думаю, что оно – еврейское, надеюсь мою отсылку к «карет» вы уже посмотрели. Особенно унизительно для «одного человека» выглядит на фоне подарков Кударкину вручение «одному человеку лепешек хлеба», если не забывать о «трех тысячах лошадей и пяти тысячах людей» пра-пра-правнука Ибн-Фадлана. За каковые не «смилостивится» не только главарь казаков-разбойников, но и сам пра-пра-правнук Кударкина. Разве что добавить, что «каждый, кто замещает какого-либо их главаря, называется Кударкин».
13. «Уезжая из области этих турок мы остановились у командующего их войском Он поставил для нас турецкие юрты. У него челядь и свита и большие дома. <…> А мы уже (раньше) преподнесли ему подарки из одежд, изюма, орехов, перца и проса. <…> Мы находились в смертельном положении, пока они не объединились на том мнении, чтобы отпустить нас. Мы же преподнесли мервский хафтан и два куска (материи) пай-баф, а его товарищам куртку и также Яналу и вручили им перец, просо, лепешки из хлеба. И они удалились от нас».
Я тут специально выбросил несколько предложений о нравах, так как в данном случае их не изучаю, чтобы вы сами увидели околесицу, которую несет автор. Или его позднейшие правщики. Во-первых, почему «командующий их войском» имеет «большие дома, челядь и свиту», тогда как у подопечных Кударкина таковых нет? Причем живут они рядом, так как Ибн-Фадлан далее Мугоджар пока не двинулся. Другого, нежели казаков-разбойников, захвативших торговый городок и властно подчинивших себе его жителей, я тут не вижу. При этом, «свита» по-русски называется дружина, хотя я ее называю просто казаки-разбойники во главе с «евреином», челядь – приближенная к услужению малая часть населения города, а остальные не упомянуты.
Во-вторых, «командующий войском», после «поднесения ему первых подарков» подверг своих гостей «смертельному положению», которое длилось довольно долго, пока «они не объединились на общем мнении» – отпустить. И то, только вторые подарки несколько смягчили их души. Поэтому, опираясь на комплекс моих работ, не логичнее ли признать что ободрали «посольство» как липку и «отпустили» лишь потому, что это – их промысел, который может автоматически прекратиться после нескольких убийств «послов». При этом надо все время помнить, что в традиционной истории и древней романистике тысячи таких примеров на предмет «обобрали и отпустили». Тогда как по той же самой истории их непременно надо перевести в статус рабов, ибо других способов получения рабов история не знает.
В-третьих, обратите внимание на следующее противоречие. С одной стороны, именно Ибн-Фадлан пожаловал к «командующему войском», причем туда, где у этого «командующего» – «большие дома», не считая «свиты и челяди». С другой стороны, «они (разбойники) удалились от нас». То есть, бросили свои «большие дома» вместе с Ибн-Фадланом и удалились? Поэтому в процитированном отрывке – два рассказа, о двух разных, разнесенных по времени и пространству случаях, скомпилированных в один случай. Один о городе, занятом разбойниками, другой – о грабеже на большой дороге.
14. Наконец «Мы отправились, пока не достигли реки Багнади». И здесь «услужливые» переводчики вставляют в скобочках: «река Чеган, вытекающая из южной оконечности Мугоджар…» и продолжают как ни в чем не бывало: «Люди вытащили свои дорожные мешки, а они из кож верблюдов. Они расстелили их и взяли самок турецких верблюдов, так как они круглы, и поместили их в их пустоту (углубление), пока они (мешки) не растянутся. Потом они наложили их одеждами и (домашними) вещами, и когда они наполнились, то в каждый дорожный мешок села группа (человек) в пять, шесть, четыре, – меньше или больше. Они взяли в руки деревяшки из хаданга (белого тополя) и держали их, как весла, непрерывно ударяя, а вода несла их дорожные мешки и они (мешки) вертелись, пока они не переправились. А что касается лошадей и верблюдов, то на них кричат, и они переправляются вплавь. Необходимо, чтобы переправился отряд бойцов, имеющих при себе оружие, прежде чем переправится что-либо из каравана. Они – авангард для людей, (следующих) за ними, (для защиты) от башкир, (на случай) чтобы они (т.е. башкиры) не захватили их, когда они будут переправляться. Итак, мы переправились через Багнади способом, описание которого мы сообщили».
Ох, и трудно же доказывать вранье, вернее, не трудно вовсе, но требуется такое многословие на коротенькую цитату, что редко кто возьмется за это неблагодарное дело, примерно как у Гоголя: «редкая птица долетает до середины…». Меня в шестом классе заставили выучить этот отрывок: «Чуден Днепр при тихой погоде, когда вольно и плавно мчит он полные воды свои…». Так я его и в семьдесят не могу забыть. Но не в этом дело.
Во-первых, не забудьте, у нас с Ибн-Фадланом – самый конец июля, вернее даже – август ближе к середине. Весенний паводок давно прошел, а осенние дожди еще не начинались. На макушке Мугоджар – примерно как на горячей сковородке («лето сухое и жаркое» – написано в БСЭ). Поэтому из Мугоджар в данное время ничего не вытекает, не считая небольших ключей, которые не далее трех метров от истока проваливаются в песок. От небольшой речки, гордо названной переводчиками «рекой Чеган», осталась только цепочка крошечных солоноватых озер. Поэтому все остальное, включая «дорожные мешки», – блеф в чистом виде.
Во-вторых, я не ставлю под сомнение сам метод переправы, только он не относится к указанной речушке. Но историкам-то нужно давно уже разворачивать «посольство» Ибн-Фадлана на запад, чтоб он попал, наконец, на Волгу и оставил нам на память свои «записки» о Руси. Вернее, не столько о Руси, сколько о Московии, ведь она сегодня такая большая, аж до Тихого океана. Ради такой глобальной задачи как не вырастить из мухи слона? Но пойдем дальше.
15. «Потом мы переправились через реку, называемую Джам (река Эмба – услужливо добавляют переводчики), также в дорожных мешках, потом мы переправились через Джахаш, потом Адал, потом Ардан, потом Вариш, потом Ахти, потом Вабна (реки между Эмбой и Уралом – вновь встревают переводчики), а это все большие реки (выделено мной).
И тут я окончательно взбеленился, чего уж нас так-то грубо дурить, приглашаю и вас к тому же самому. Во-первых, расширю цитату насчет Мугоджар, ибо «лета сухого и жаркого», мне кажется, мало. Из статьи в БСЭ о Мугоджарах: «зима холодная, малоснежная, со средней температурой января - 14 °C; лето сухое и жаркое, средняя температура июля 24 °C. Годовое количество осадков 200-250 мм ». «Малоснежная» зима вкупе с «годовым осадком в 200-250 мм при среднем по европейской России 600 мм должно однозначно показывать, что с Мугоджар в пик лета ничего не должно вытекать: снег растаял в апреле, а дождичка тут ждут чуть меньше, чем в Сахаре.
Во-вторых, дезавуирую ссылочку переводчиков на Эмбу, ибо она согласно все той же БСЭ «теряется среди солончаков в 5 км от Каспийского моря», то есть, вообще до Каспийского моря не доходит, хотя и стремится к нему. И, коль скоро, Ибн-Фадлан нацелился на Волгу, на запад, ему в самый раз именно здесь Эмбу посуху перейти.
В-третьих, но и «в верхнем течении Эмба сильно меандрирует», то есть распадается на озера, «летом русло на верхнем участке состоит из разобщённых плёсов; ниже плёсы глубиной до 4-5 м сменяются мелководными участками». Другими словами, всегда можно найти место не далее километра друг от друга, по которому Эмбу в любом случае можно не переплыть на бурдюках, а просто перейти как по мосту. Ибо и «в низовье река пересыхает, разбиваясь на плёсы». Притом заметьте, ее «питание преимущественно снеговое». И еще заметьте, что «основной сток в период весеннего половодья (апрель - май)», а весь май, как показано выше, Ибн-Фадлан «закалывал верблюдов, выделывал кожи и шил бурдюки».
В-четвертых, привожу карту событий. Она нам потребуется не только для того, чтобы представить реальный его путь, но и найти место, где бурдюки Ибн-Фадлану потребуются в действительности, а не на бумаге. Это место – от Уральска через Оренбург до Орска, за линией которых – вожделенные горы Урал. В которых до сих пор лежит то, что когда-нибудь надобилось и впредь понадобится человечеству. И как раз перед этой большой переправой, каковую так красочно описал Ибн-Фадлан немного выше, лежит небольшая «кучка» маленьких переправ, которые обозначены в его сочинении непереводимыми словами. Которые вообще-то говоря можно и вброд перейти или даже просто обойти посуху, помня о только что сообщенных вам «меандрах». Правда, в дождливое лето «меандр» может и не быть, это же все-таки не более южное пекло, но вброд – всегда можно место найти. Только я еще не все сказал.

В-пятых, немного правее (восточнее) Орска лежит надежда археологов – Аркаим, которому эти археологи понапридумывали столько чуши, что я вынужден был написать специальную на этот счет. Мало того, выше есть древнейший городок Карталы, в котором я расположил столь же древнейшее Картаусово царство, (см. на этот счет специальные статьи об Еруслане Лазаревиче и самом Картаусовом царстве). А то Пушкин обо всем этом знал, так как списал с Еруслана Лазаревича своего богатыря Руслана, того самого, временно неудачливого любовника Людмилы, а вы об этом ничего не знаете. Как же так? – Некрасиво.
На этом самом месте (см. саму цитату, которую я так долго критиковал) труд Ибн-Фадлана дает большой скачок, притом так хитро замаскированный, чтоб вы сами догадались, что он уже и Волгу переплыл. Ибо дальше следует.
16. «Потом мы прибыли после этого к печенегам, и вот они остановились у воды похожей на море, не текущей, и вот они темные брюнеты, и вот они с совершенно бритыми бородами, бедны в противоположность гуззам. Ведь я видел из (числа) гуззов таких, что владели десятью тысячами лошадей и ста тысячами голов овец».
Если забыли, то гуззы – на Мугоджарах, а «не текущая вода» – Аральское, Черное и Каспийское моря, выбирайте! Хотя историки и знают, что печенеги жили в Причерноморье, с ними еще киевские князья все воевали. Но, чтоб труднее отгадать, к печенегам пристроена следующая фраза: «…овцы пасутся на снегу, выбивая копытами и разыскивая траву. А если они не находят ее, то они грызут снег и до крайности жиреют. А когда бывает лето, то они едят траву и худеют». То есть, Ибн-Фадлан как птичка слетал на один день с Мугоджар к Черному морю, каковое получилось у него намного севернее Мугоджар из-за овечек, «жиреющих от снега». Не верите, что на один день? Тогда читайте: «Мы оставались у печенегов один день, потом отправились и остановились у реки Джайх (Хайдж) (Яик), а это самая большая река, какую мы видели, самая огромная и с самым сильным течением. И действительно, я видел дорожный мешок, который перевернулся в ней, и те, кто был в ней, потонули, и люди (мужи) погибли во множестве, и потонуло (значительное) количество верблюдов и лошадей. Мы переправились через нее только с трудом». Так как все это блеф, а услужливые переводчики вновь в скобочках добавили «у реки Джайх (Хайдж) (Яик)», мне ничего не остается, кроме упомянутой птички.
17. Потом последовали переправы через реки Джаха, Азхан, Баджа, Самур, Кабал, Сух, Ка(н)джалу, при которых переводчики ничего не пишут в скобочках, так что следы Фадлана потерялись окончательно и вдруг всплыли «в стране народа турок, называемого аль-Башгирд», которые «едят вшей». Приятного, так сказать, аппетита! Причем в скобочках не написано, что это башкиры. И не башкиры их интересовали, а полезные ископаемые, особенно гора Магнитная, целиком состоящая из магнетита с содержанием чистого железа более 70 процентов. Конечно, не Ибн-Фадлана лично, а вообще – торговое племя, что и отразилось в романе.
Только я хочу добавить две весьма перспективные догадки. Первая: Урал начал осваиваться торговым племенем намного раньше Среднерусской возвышенности с центром в городе Москве и даже во Владимире, ибо там из полезных «ископаемых» одни лесные грибы. Вторая: собственно, даже не Центральная Азия была заинтересована в этом освоении Урала, и даже не Индия (вместе с нынешним Пакистаном, а именно торговое племя, так как в Горной Шории тоже плавили железо из магнетита, но это слишком далеко от потребителя. Притом надо учесть конкуренцию волжских торговцев из Ирана западного и торговцев из восточного Ирана, о которых я сейчас речь и веду. Поэтому весьма сомнительно, чтобы Ибн-Фадлан, даже не будучи простым писателем, а – разведчиком, сильно бы заинтересовался Волгой. Здесь давно царствовали купцы из нынешнего Дагестана.
Далее следуют этнографические данные, которые можно распространить на полосу от Урала до Тихого океана, поэтому я их опускаю. А потом последовали вновь переправы (7 переправ), причем только одна разъяснена в скобочках – Джарамсан (А.З.Валидов считает, что это Черемшан) . Наверное потому, что она приближает к Волге, хотя, повторяю, Ибн-Фадлану там делать нечего. Он уже нашел то, что ему нужно.
18. Встречу с царем славян я вообще ни описывать, ни цитировать не намерен, так как славянами называются рабы и «распространены» они от Тихого океана до нынешних границ Атлантического блока и даже чуток дальше. Поэтому дислокацию ибн-фадлановских славян установить невозможно. Притом Фадлану там и делать было нечего, как я сказал выше. Отмечу только насчет продажи «славянских» девиц на Волге, а, может быть и на какой другой реке поближе к Уральским горам. Главное же то, что «царь славян» у Фадлана славил Аллаха, а это русским историкам не понравится. Притом, как пишет сам Фадлан, еще «до моего прибытия на его минбаре уже провозглашали за него хутбу: "О, Аллах! сохрани (в благополучии) царя Балтавара, царя Булгара».
19. О царстве славян: «Их пища (это) просо и мясо лошади…» . И только одна эта фраза показывает, что Фадлан никогда не был на будущей Руси. А вот еще: «Все они (живут) в юртах…».
20. «Они прибывают из своей страны и причаливают свои корабли на Атиле, а это большая река, и строят на ее берегу большие дома из дерева, и собирается в одном доме десять и двадцать, – меньше и больше, и у каждого скамья, на которой он сидит, и с ними девушки – восторг для купцов . И вот один сочетается со своей девушкой, а товарищ его смотрит на него. Иногда же соединяются многие из них в таком положении одни против других, и входит купец, чтобы купить у кого-либо из них девушку, и застает его сочетающимся с ней, и он (рус – вставка переводчиков) не оставляет ее, или же отчасти свою потребность».
Я эту цитату привел лишь потому, что неизвестно еще, откуда же они прибыли, ибо прибыть они могли от гребня самого Урала до водораздела между Волгой и Днепром, Волгой и Доном. Но так как среди «славянских юрт» вдруг возникли «большие дома из дерева», то думаю, Ибн-Фадлан просто пересказывает с чужих слов. Тем не менее, я очень много работ посвятил этому феномену, только здесь пересказывать не буду. Я ведь уже все выяснил, что меня интересовало.
Ибн-Фадлан – Аркаим – Ермак Тимофеевич
Причастность Ибн-Фадлана к Аркаиму и вообще – к «Стране городов» чуть южнее Карталы, из предыдущего видна отчетливо. Но и знаменитый «наш казак» Ермак Тимофеевич, сдается мне, прибыл на Уральские горы примерно по этому же маршруту, и оттуда же. И я этот маленький раздельчик затеял лишь к тому, чтобы сделать ссылку на свою работу «С худой овцы – хоть шерсти клок» с подраздельчиком «Загадка Ермака – тайна России». Ознакомьтесь, поможет разобраться с русской историей. Кстати и о преднамеренном затоплении этих самых мест в числе прочих "искусственными" морями . И вообще-то говоря, тут неплохое место, чтоб заглянуть в мою насчет Великой китайской стены.
«Продолжение по Йакуту»
Этот заголовок я взял, как он значится в «Записках» Ибн-Фадлана, но «продолжение» не может быть продолжением, так как Фадлан умер за 200 лет до продолжения своих записок. И я уже сообщил вам, что, на мой взгляд, Якут и есть автор «Записок», только их переписали как надо и отправили из 13 в 10 век под именем Ибн-Фадлана. И это нужно русским историкам для того, чтобы хазары «пропали» неизвестно куда именно в 10 веке и не на один день позже, так как в противном случае историкам некуда втолкнуть монгольское иго. И именно поэтому книга Кёстлера о хазарах состоит только на треть из собственных слов Кёстлера и на две трети из комментариев к ней, «доказывающих» что Кёстлер не прав, разрешив жить хазарам в 13 веке (см. мою статью «Хазары»). Но ведь Ибн-Фадлан не видел хазар, помните, он на самолете перелетел из Мугоджар к печенегам? И тем же рейсом вернулся на Мугоджары через день.
А собственно о хазарах у него нет ни единого слова, если не считать совершенно сумасшедшей сказки о том, как целое племя питается одной большой рыбиной: они ее вызывают из моря, она к ним приплывает, они отрезают от нее сколько надо и отпускают опять в море для восстановления отрезанного, потом вновь вызывают. Хотя, если глянуть из сегодняшнего дня да из моей концепции истории, получится недурно. Если рыба – торговля, а отрезанное – торговая прибыль, полученная из воздуха, сиречь – воды. Столь же хорошо этот анекдот подходит и к казакам-разбойникам, они отрезают от торговли кусок грабежом и отпускают торговцев для нагуливания нового мяса. И вновь отрезают.
Естественно, без меня бы вы этот анекдот о рыбе выплюнули бы из своей головы, не придав ему никакого значения в рамках традиционной истории, и спросили бы упомянутых в начале статьи академиков: а хазары-то где? Эта сказка, и все что ли? Тогда не поверим, что Ибн-Фадлан ходил на Русь.
Да, собственно, вам и спрашивать-то не нужно, академики и без наводящих вопросов смущены вертлявой своей «виртуальностью», то бишь недосказанностью. А так как глупость порождает глупость, они вывернулись, притянули вновь из 13 века в 10 век «продолжение», которое, поторопившись забыли в 13 веке, когда отправляли все эти «записки» в 10-й. Решили, что лучше поздно, чем – никогда. Хотя логика совсем скособочилась от стыда. Но разве бывает академикам стыдно? Вон академик Александров своим реактором РБМК-1000 «многоканальным» полглобуса отравил и хоть бы покраснел, так героем и помер, а мы все – расхлебываем. И расхлебывать будем еще 40 тысяч лет. До него ведь в открытой природе плутония не было, плутоний ведь был только в свинцовых контейнерах «рукотворных».
Вообще-то я бы на их месте сел и нарисовал новый экземпляр «записок» Ибн-Фадлана с добавлением из Йакута, но чтоб Йакута и духу не было. Закопал бы в Бухаре и через три дня нашел при корреспондентах. Но беда в том, что Поджо Браччолини давно помер, и с тех пор такого блестящего писаря не родилось. Так что несбыточно это все. Хотя и рисовальщиков тысячных купюр пригласить было можно, они бы тоже справились, им только дай образец, с чего рисовать, нарисуют и «состарят». Не даром, конечно. Только и академия ныне бедна как церковная мышь. Это первое. Во-вторых, надо ведь самим академикам древние буковки в ряд составить, «черновик» рисовальщикам создать. Но это же – такая работа, тяжелее, чем на зиму всей академии дров наколоть. А академики-то ныне пошли ленивые, не чета Ломоносову, «самолично все науки превзошедшего». Притом уже опыт был исторический, когда печать Ивана Грозного то и дело пришивали дратвой попеременно ко всем бумагам, какие требовалось этой печатью удостоверить перед объективом фотоаппарата.
В общем, присобачили к роману Ибн-Фадлана Хазарский каганат Йакута, родившегося на 200 лет позднее, примерно как печать Ивана Грозного, и успокоились. Читайте, дескать, просвещайтесь. А мне остается только проанализировать и добавить к своей картине хазар, нарисованной во многих моих работах, в том числе и в упомянутых, то, чего я раньше не сказал, а в ряде случаев – просто подтвердить прежние мои выводы. Итак.
21. «Его (большего, главного царя хазар – Мое) замещает муж, называемый кундур-хакан, а этого замещает также муж, называемый джавишгар. И обычай большего царя тот, что он не дает аудиенции людям и не разговаривает с ними, и к нему не является никто, кроме тех, кого мы упомянули, а управление по администрированию, исполнению наказаний и управлению государством - на его заместителе хакан-бехе».
Я этот идиотский для логики обычай, извлеченный мной из «Хазарского словаря» Павича, когда совершенно неизвестно, откуда же исходит власть, уже рассматривал в других своих работах, только недостаточно четко сформулировал следующий тезис. Дело в том, что торговое племя никогда не имело над собой светского царя, ибо это одно и то же, чтобы все магазины на Земле принадлежали одному владельцу. И даже в одной стране это невозможно и даже – при социализме, когда все магазины «принадлежали народу». Но обогащались на этих магазинах чиновники тысяч ОРСов, УРСов (отделы и управления «рабочего снабжения»), а самый главный УРС страны был за облаками, выше бога, но царь – генеральный секретарь тоже не имел к нему почти никакого отношения (исключая Кремлевскую кормушку). Во времена же Хазарского каганата, естественно, были какие-то советы, по видам деятельности, но председатели его царями не были, нельзя же иметь дюжину царей. И именно эти советы, чуть не подравшись, избирали временного военного царя в случае надобности и при каждом таком случае – нового. Именно это и отражено в цитате, только когда переводили это на нормальный язык, цари-то уже были и переводчики никак не могли это перевести иначе, будучи под прессом уже нового понятия о царе. То есть это был зародыш так называемого магдебургского права.
22. «И обычай большего царя тот, что если он умрет, то строится для него большой двор, в котором двадцать домов, и вырывается для него (главного царя) в каждом из домов его могила… и бросается негашеная известь поверх этого. А под этим двором и этой могилой есть большая река, которая течет, и они помещают эту реку над этой могилой и говорят, что это для того, чтобы не добрался до нее ни шайтан, ни человек, ни черви, ни гнус. Когда он похоронен, то рубят шеи тем, которые его хоронят, чтобы не было известно, в каком из этих домов его могила. Могила его называется рай, и говорят: "Он вошел в рай"».
Скажу, что не по конструкции, а по самой идее и ее осуществлению, это здорово напоминает египетские пирамиды или вавилонские зиккураты, разбросанные по всей Земле, (см. мои другие работы). Но в данном случае ни обрамить камнем зиккурат, ни пирамиду из чистого камня или бетона соорудить невозможно, не из чего – кругом один песок на сотни километров. Это – первое. Во-вторых, даже если завезти камень по цене золота, то каждый год вся Ахтуба меняет свои сотни русел и, где была суша – там уже вода, а где были сотни русел – там возникли длинные, узкие острова. Но так как все эти чрезвычайно тайные сооружения предназначены только для того, чтобы сохранить оборотный капитал (в пирамидах – тщетно, в зиккуратах –понадежней, Шлиман нашел как раз под стеной зиккурата), то новая технология прятать под рукотворной протокой оборотный капитал – довольно остроумна.
Господа археологи, если вы послушаетесь меня и будете копать не там, где вы копаете (в центре), а около оснований стен; и не так, как вы копаете (наобум, так как площади велики), а с учетом того, как вы сами бы прятали; то вы накопаете столько золота, что «золото Шлимана» покажется вам игрушкой.
23. Продолжительность их царя – сорок лет. Если он переживет их один день, то подданные и его знать убивают его и говорят: "Он таков, что уже уменьшился его ум, и его суждение неосновательно".
А это ничто иное, как регулярные перевыборы, только историкам при «переводе» четыре года показалось мало и был прибавлен ноль. Ведь мозги их давно приспособились под царей, которые живут больше четырех лет.
24. «Если он отправит отряд, то он не убегает вспять никоим образом, а если он обратится в бегство, то предается смерти всякий,кто возвратится. Иногда же, если смилуется, то сделает их конюхами».
А это вовсе даже и не про хазар, это – про казаков-разбойников, которые жили в том же каганате, только не в постоянном контакте с торговым племенем, а – в периодическом. Поэтому историки их и приняли за хазар. Заметьте, кстати, что согласно моей статье «С худой овцы – хоть шерсти клок»: «Атаманом-то – стар казак Илья Муромец, Податаманьем Самсон да Колыбанович, Добрыня-то Микитич жил во писарях, Алеша-то Попович жил во поварах, Мишка Торопанишка жил во конюхах…».
25. «(Конец отрывка Ибн-Фадлана о хазарах у Йакута)».
Ха-ха-ха. Насмешили.
06.06.06.
Раз уж Вы попали на эту страничку, то неплохо бы побывать и здесь:
[ ] [ ]